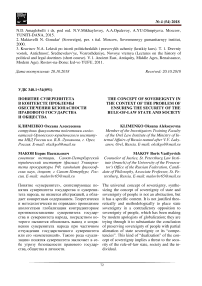Понятие суверенитета в контексте проблемы обеспечения безопасности правового государства и общества
Автор: Клименко Оксана Алексеевна, Маков Борис Васильевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Понятие «суверенитет», синтезирующее понятия суверенитета государства и суверенитета народа, не является абстракцией, а обладает конкретным содержанием. Теоретически и методологически не оправдано проводимое апологетами глобализации контрадикторное противопоставление суверенитета государства и суверенитета народа, посредством которого пытаются обосновать вывод о сохранении суверенитета народа при частичном отчуждении государственного суверенитета или его «компетенций». Такого рода «дуализация» понятия суверенитета заключает в себе угрозу безопасности правового государства, общества и личности.
Правовое государство, общество, европейский союз, суверенитет, безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/142233975
IDR: 142233975 | УДК: 340.1+34(091)
Текст научной статьи Понятие суверенитета в контексте проблемы обеспечения безопасности правового государства и общества
опасность.
Понятие суверенитета является центральным элементом понятия правового государства. Без суверенитета нет, и не может быть полноценного государства. Угроза полной или даже частичной потери государством своего суверенитета автоматически ставит под вопрос безопасность общества, личности и самого этого правового государства. Однако именно понятие суверенитета в его классическом понимании, закрепленном в традициях вестфальского типа государственности, оказалось сегодня в центре критики. Прежде всего, это связано с вопросами политико-правовой трактовки трансформации суверенитета государств-членов Европейского союза: «Сегодня все снова и снова воспроизводится разный подход государств-членов относительно его будущего … В этой точке сосредоточены представления о границе между политическим и юридическим, между мечтой и действительностью. С чисто юридической стороны определение правой природы Европейского союза прежде всего зависит от политической суверенной воли государств, являющихся его членами. Является фактом то, что юридическое определение европейского сообщества практически невозможно. Какие бы не предпринимались для этого попытки, они в конечном итоге сводили его к традиционной категории межгосударственного объединения. Но такой подход представляется проблематичным, если считать, что вопрос о правовой природе Европейского союза зависит от определения правовой природы отчуждения компетенций государств-членов» [14, с. 253].
В западноевропейской традиции правовой мысли идея суверенитета базируется на двух понятиях – понятии государства и понятии нации – которые в своей взаимосвязи формируют единый дискурс. Представления о природе суверенитета, развитые просветителями XVIII в., закреплялись во Французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года и в Конституции Французской республики 1791 года: «Постепенно понятие суверенитета трансформировалось благодаря своей существенной открытости и посредством своей чисто формальной природе. Понятие суверенитета – это понятие функции, а не субстанции. Все это ведет к изменению в истории содержания этого понятия. В дальнейшем революция перенесла понятие суверенитета монарха на народ» [14, с. 138].
Это представление о «переносе» понятия суверенитета с монарха на народ, во-первых, фиксировал правовое содержание реального исторического события – крушения французской монархии и установления республики, во-вторых, идея просветителей о том, что источником суверенитета может быть народ, получила, можно сказать, практическое подтверждение. Однако из этого вовсе не следовало, что отныне только народ можно было признавать законным источником суверенитета. В большинстве стран таким источником по-прежнему признавался монарх. Вопрос о том, является ли этот факт некоторого рода юридической фикцией или же он опосредован ходом истории точно так же, как и народный суверенитет, оставался открытым и остается открытым вплоть до наших дней [8, с. 181].
Как нам представляется, дело состоит в том, что понятие суверенитета в теории правового государства является первичным понятием, выражающим, если использовать определение Гегеля, «идеальность всех особенных правомочий». В своей «Философии права» Гегель прямо указывал на всеобщий характер понятия суверенитета, сводящих в свою внутреннюю сущность (идеальность) все особенные определения государства, которые именно поэтому следуют из понятия суверенитета и зависят от него, а не наоборот [1, с. 316-318]. Согласно этой точке зрения, организация, обладающая политической властью, для того чтобы существовать в форме государства, должно обладать тем качеством, которое обозначается комплексным синтетическим понятием суверенитета. Суверенитет выражает автономность и субъектность политической организации, без которого его существование уже не будет существованием именно государства. Вопрос о том, будет ли это государство абсолютной теокра-

тической монархией или демократической республикой, по отношению к вопросу обладания политической организацией суверенитетом, уже вторичен. Точно так же, как и вопросы о соблюдении прав человека, его демократических свобод, обеспечении его безопасности и т.п. В противном случае окажется, что мы экстраполируем особенное содержание понятия на его всеобщее содержание, что методологически недопустимо.
Как и теоретическое понятие суверенитета общий принцип суверенитета выполняет в процессе общественного развития двойную функцию: инструментальную и структурирующую. В таком случае принцип национального суверенитета выражает связь между нацией, ее действительным суверенитетом и единой национальной государственностью и может рассматриваться в своих двух аспектах: суверенитет государства и суверенитет народа. «Принцип национального суверенитета получил как материальное, в принципе переносимое на другие инстанции содержание (суверенитет государства), так и абстрактное, неотчуждаемое содержание (демократический суверенитет). Ядро суверенитета складывается не из комплекса компетенций – его составляет экспликация народом первоисточника власти. Такое понимание соответствует изначальному значению понятия национального суверенитета в том виде, как оно сложилось ко времени революции» [14, с. 206]. По мнению исследователя, это различие между государственным суверенитетом и суверенитетом народа, которое соответствует национальной конституции (в данном контексте речь идет о конституции Французской республики), позволяет согласовать национальную теорию суверенитета с реалиями Европейского союза. Лишь при таком условии понятие национального суверенитета еще может выполнять свои функции в европейском контексте без того, чтобы угрожать европейской интеграции. Обозначение суверенитета правового государства как совокупности компетенций преимущественно международного характера позволяет осуществить перенесение этих компетенций на европейское сообщество, не затрагивая при этом сам принцип национального суверенитета, так как национальный суверенитет в таком случае оказывается делимым только в аспекте суверенитета государства, но не в аспекте суверенитета народа. «Благодаря этому можно оправдать перенос компетенций государственного суверенитета на Европейский союз без того, чтобы национальный суверенитет стал пустым звуком: изначальная иррациональность текста французской конституции отсылает к «священной иррациональности» французской теории суверенитета» [14, с. 206]. Как нам представляется, такого рода «плюрализация» понятия суверенитета несовместима с его трактовкой как субъектности государства, поскольку субъект по самой сущности своей монистичен [4, с. 61-64].
В результате мы видим, что хотя само понятие суверенитета и является многозначным, вместе с тем в правосознании европейских народов оно тесно связано с представлением о «едином и неделимом» суверенитете, что, без сомнения, создает непреодолимые сложности при трансляции суверенитета правовых государств на Европейский Союз как на некое транснациональное государство. Но именно для преодоления такого рода точки зрения все чаще раздаются призывы к интерпретации понятия суверенитета в качестве совокупности «компетенций». Вместе с тем такой подход сам по себе не решает вопроса о возможности переноса ядра суверенитета или порога возможной «трансляции компетенций» на Европейский Союз. Ведь, все равно остается открытым вопрос о том, когда эта трансляция компетенций достигнет уровня, при котором эта «совокупность компетенций» станет лишь пустой оболочкой. При этом нужно ответить и на вопрос о том, как быть с системой конституционной защиты суверенитета. В связи с такой постановкой вопроса ряд исследователей говорит о том, что процесс конституционализации европейской интеграции может привести к преобразованию национальных конституций, в своего рода, «дуальные конституции», которые в рамках установленной правовой системы уже не будут соответствовать «существенным условиям обеспечения национального суверенитета» [8, с. 115]. При этом отмечается, что в рамках своей правовой компетенции Конституционный совет ограничился тем, что установил неприемле- мость складывающихся в новом транснациональном политико-правовом образовании существенных условий сохранения национального суверенитета [8, с. 115].
В этой связи нам также представляется неприемлемым столь категоричное противопоставление друг другу суверенитета правового государства и суверенитета народа и «дуализа-ция» понятия суверенитета в ущерб идее его изначальной монистической целостности. Европейские авторы говорят о неделимости национального суверенитета, сами опасаясь при этом, что данное понятие окажется «пустым звуком». Но, далее, непонятно, на каком основании можно отказать в этом качестве неделимости суверенитету государства. В конечном счете, европейские правоведы постмодернистского толка пытаются уверить своих читателей в том, что существует не один, а два суверенитета. Лежащий в их основании единый суверенитет в таком случае и становится совершенно «пустым звуком», всего лишь абстрактным родовым понятием. Представляется, что здесь за рассуждениями постмодернистов о критической деструкции понятий, скрывается не более чем докантовская метафизика, для которой понятия – это не выражение действительного внутреннего единства вещей, а не более чем формальнологические абстрактные категории, которыми можно произвольно оперировать, осуществляя в отношении них чисто логические операции. Как результат, создается не более чем видимость того, что имеет место содержательный анализ понятий, который подменяется чисто идеологическим обоснованием тех или иных политических решений. Постмодернисткая деструкция правовых категорий оборачивается возвратом теории права на уровень мышления XVIII века без сохранения характерной для эпохи Просвещения установки на апологетику национального суверенитета государств «вестфальской модели». В итоге получается следующая теоретическая, а точнее говоря формально-логическая конструкция: делимому суверенитету государства с отчуждаемыми «компетенциями» противостоит неделимый суверенитет народа, а объединяющий их общий суверенитет представляется либо абстрактной родовой категорией, либо кантовской «вещью-в-себе».
Ряд авторов, прежде всего теоретики функционализма и неофункционализма (Д. Митрани, Э. Хаас, Л. Линдберг и др.), открыто говорят об «эрозии» суверенитета и стремятся относиться к этому процессу как объективному предмету анализа. Они изучали процессы добровольного создания больших по масштабам политических объединений, которые сознательно воздерживаются от применения силы в отношениях между составляющими его элементами [12, с. 4; 13, с. 10-16]. В центре внимания неофункционалистов стоял вопрос, каким образом и в силу каких причин государства добровольно ограничивают свой суверенитет, одновременно приобретая новые средства для урегулирования конфликтов между собой. Таким образом, под интеграцией (в правовом значении этого термина) неофункционалисты понимали «процесс, посредством которого лояльность политических акторов нескольких национальных образований смещается в сторону нового наднационального центра принятия решений, который становится центром политической активности. Конечным результатом процесса политической интеграции является новое политическое сообщество» [12, с. 433]. Таким образом, в центре внимания данной научной парадигмы находились проблемы «эрозии» рассредоточения суверенитета. В итоге остается открытым вопрос о последствиях, в том числе и правовых, которые может иметь делегирование Евросоюзу суверенных «компетенций» от государств, являющихся благоприобретателями интеграции, и от тех государств, для которых, деструкция суверенитета, напротив, ведет к снижению уровня экономического потенциала и социально-политической стабильности, уровня безопасности личности и общества. В современных условиях основные приоритеты политики правового государства в области интеграционных процессов, несущих в себе явную или скрытую угрозу государственному суверенитету, должны быть связаны с вопросами, в которых наиболее отчетливо просматриваются параметры соотношения внутренней и внешней политики, направленные на обеспечение государственной безопасности. При этом Россия должна отстаивать собственное видение формата государственного суверенитета. Оно должно состоять в утверждении отноше-

ния к суверенитету как к правовой ценности, имеющей не только собственно юридическое, но и нравственное измерение [2, с. 196-197]. Именно как ценность нравственно-правового порядка идея суверенитета может объединять различные народы и культуры вопреки негативным тенденциям стремительно партикуляризующегося мира.
Если для Запада сегодня своеобразным манифестом становится положение Макса Вебера о том, что международная политика и мораль несовместимы, то Россия с ее глубокими традициями изучения отношения права и нравственности [5, с. 42-47; 6, с. 177-179; 7, с. 4-11; 9, с. 186-192; 11, с. 72-79] должна занять прямо противоположную позицию. Эта позиция, конечно же, найдет отклик и поддержку мирового сообщества, особенно в сфере международного права, где добросовестность, ответственность, разумность признаются естественными условиями договорных отношений. Ценностный подход к понятию суверенитета, основанный на духовных традициях российской нации [10, с. 173-179], альтернативный грубому прагматизму, должен способствовать утверждению начал справедливости в системе международно-правового регулирования транснациональных отношений, исключающих какую-либо дифференциацию государств или ущемление их суверенитета в зависимости от уровня экономического развития в международно-договорных отношениях или при участии в деятельности международных организаций.
Список литературы Понятие суверенитета в контексте проблемы обеспечения безопасности правового государства и общества
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
- Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П., Числов А.И. Современные интеграционные процессы и роль государства и права в мировом сообществе / Мир политики и социологии. 2015. № 8. С. 193-197.
- EDN: UAXESJ
- Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели (Историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи справедливости в ХХ-ХХI вв.): монография. СПб.: Фонд «Университет», 2017.
- EDN: YMYWAR
- Масленников Д.В. Природа логического в философии абсолютного идеализма (Гегель и Фихте). СПб.: НОИР, 2011.
- EDN: QXBJFP
- Масленников Д.В. Право как форма различения добра и зла / Юридическая мысль. 2015. № 6. С. 42-47.
- EDN: VJWGDN