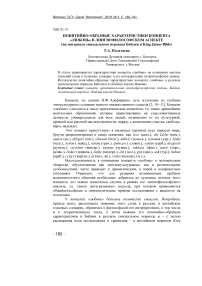Понятийно-образные характеристики концепта "любовь" в лингвофилософском аспекте (на материале синодального перевода библии и King James Bible)
Автор: Полетаева Татьяна Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье сравниваются характеристики концепта «любовь» на основании анализа значений слова в толковых словарях и его интерпретации на философском уровне. Исследуются понятийно-образные характеристики концепта «любовь» в русском (синодальном) переводе Библии и в «Библии короля Иакова».
Концепт, архетипический, лингвофилософский, любовь, библия, синодальный перевод, "библия короля иакова"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281312
IDR: 146281312 | УДК: 81-37
Текст научной статьи Понятийно-образные характеристики концепта "любовь" в лингвофилософском аспекте (на материале синодального перевода библии и King James Bible)
Концепт, по словам Н.Ф. Алефиренко, есть излучение из глубины этнокультурного сознания некоего множественного смысла [2: 10–11]. Концепт «любовь» относится к числу архетипических концептов, т.е. таких древнейших ментальных образований, которые ориентированы на смысложизненные ценности, универсальные для всех людей, независимо от их культурной, кровной или расовой наследственности, наряду с концептами счастья, свободы, веры, надежды.
Этот концепт присутствует в языковых картинах всех народов мира, будучи репрезентирован в таких понятиях, как love (англ.), die Liebe (нем.), amare (ит.), diligitis (лат.), обичам (болг.), miłość (польск.), кохання (укр.), láska (чеш.), љубов ( макед.), αγάπη (греч.), ljubezen ( словен.), љубав (серб.), dragoste (румын.), szerelem (венгер.), юрату (чуваш.), rakkaus (фин.), amor (порт., испан.), elsker (норвеж.), liefde (нидерл.), ást ( исл.), grá (ирл.), aşk (тур.), hubun (араб.), сүйүү (киргиз.), ài (кит., яп.), cinta (индонез.) и т.д.
Несогласованность в понимании концепта «любовь» в человеческом обществе, обусловленная как лингвокультурными, так и религиозными особенностями, часто приводит к драматическим, а порой и конфликтным ситуациям. Очевидно, что для решения возникающих проблем межличностного общения необходимо добраться до духовных истоков этого концепта, что можно попытаться сделать в рамках его лингвофилософского анализа, т.е. такого интегративного подхода, при котором применяются общефилософские и лингвистические приёмы исследования с акцентом на последних.
У концепта «любовь» большое количество смыслов. Попробуем, прежде всего, рассмотреть значение этого слова в русских и английских толковых словарях, обратимся к философской его интерпретации, в том числе и в дохристианскую эпоху, а затем выявим его понятийно-образные характеристики в Библии в русском синодальном переводе и – с целью расширения поля исследования и сравнения – в английском переводе King
James Bible , и, таким образом, попытаемся выявить семантические ряды концепта «любовь» в библейском тексте, раскрыть его множественный смысл.
В отечественных толковых словарях (В. Даля, изданном в середине XIX в., Д.Н. Ушакова, впервые изданном в 1935–40 гг., С.И Ожегова, впервые увидевшем свет в 1949 году, в версии 1987 г., а также в современном словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой 2000 г.) «любовь», прежде всего, определяется как необъяснимое рассудком чувство привязанности «от склонности до страсти» [5: 282–283], как «чувство самоотверженной, сердечной привязанности» [10: 269], основанное либо на общности интересов и идеалов, либо на взаимном расположении, симпатии, близости, либо на инстинкте [14], либо «на половом влечении» [7].
В современных английских словарях любовь также, в первую очередь, определяется как чувство ( feeling ) .
Так, Longman Dictionary даёт следующие определения: a strong feeling of caring about someone, especially a member of your family or a close friend; a strong feeling of liking someone a lot combined with sexual attraction; a strong feeling of pleasure and enjoyment that something gives you [16] . В Оксфордском словаре мы находим такое описание слова love как чувства: an intense feeling of deep affection; a strong feeling of affection and sexual attraction for someone; affectionate greetings conveyed to someone on one’s behalf [17] .
Философскую характеристику любви можно найти у В.С. Соловьёва [12: 704]. Философ выделяет несколько видов любви: самая главная, по его мнению, это половая любовь – именно она, пишет В.С. Соловьёв, есть единственная «сила, которая может изнутри, в корне, подорвать эгоизм» [13: 507]. Эта любовь (неразделённая, взаимная, но приводящая к трагическому концу, счастливая, но без деторождения) вовсе не служит человеческому роду [13: 501–507]. Другие виды любви – это любовь родительская (в частности, материнская), дружба между лицами одного и того же пола, патриотизм, любовь к человечеству, любовь к науке, искусству и т.п. [13: 509–510].
Филолог, философ, библеист и культуролог С.С. Аверинцев отмечает, что попытки осмыслить понятие «любовь» были ещё у Гесиода в его мифологическом эпосе, где любовь понималась как космическая сила , которая присуща богу Эросу, рождающемуся сразу после Хаоса и Матери-Земли. Для греческой мысли (в частности, в лице Эмпедокла, Аристотеля, Посидония) было характерно понимание любви как «строящей, сплачивающей, движущей и соразмеряющей энергии мироздания» [1]. У Платона также появилось разделение любви на виды: чувственную влюблённость, служащую удовлетворению страстей, и идеальную любовь, предмет которой есть абсолютное Благо и абсолютная Красота. Однако разделение понятия «любовь» на виды в древнегреческом языке было больше, чем то, что предлагал Платон. Согласно С.С. Аверинцеву, в древнегреческом языке выделялись четыре вида любви: «эрос» как восторженная влюбленность, стихийная и страстная самоотдача, причем направленная не только на плотское, но и на духовное, «филиа» как приязнь, обусловленная социальными связями и личным выбором (иначе дружба), «сторгэ» как семейная любовь-нежность и «агапэ» как снисходящая любовь к ближнему [там же].
О. Павел Флоренский, глубоко исследовавший эту особенность греческого языка, называл четверицу слов «любви» одной «из великих драгоценностей сокровищницы эллинского языка» [15: 327].
Но совершенно новые смыслы любви предложило христианство, которое в своем понимании опиралось, прежде всего, на Священное Писание Ветхого и Нового Завета.
Проанализируем понятийно-образное выражение концепта «любовь» в Библии в двух переводах – синодальном (русском) переводе и в английской «Библии короля Иакова» ( King James Bible ), т.е. выявим, насколько интенсивно и в каких словесных образных формах в библейском тексте отражается многообразие смыслов этого концепта. Выбор указанных переводов для исследования обусловлен сопоставимостью их по духу, по богослужебному назначению (о чём, в частности, пишет Е.М. Верещагин [4]), что подтверждается анализом лексико-грамматических, синтаксических и стилистических особенностей King James Bible [11: 92–105]. В качестве методов исследования использован частотный анализ, прежде всего, русского библейского текста с проведением сплошной выборки слов с корнем «люб», а также выборки словосочетаний с существительным «любовь» и с однокоренными ему глаголами, прилагательными и причастиями. В ходе анализа выявлены соответствия в английском тексте «Библии короля Иакова».
Во-первых, выясним, частотные характеристики понятия. В русском (синодальном) переводе Библии однокоренные слова из семантического поля концепта «любовь», имеющие положительный нравственный смысл, встречаются в Ветхом Завете 279 раз, в Новом Завете 242 раза: это существительное «любовь» (в разных падежах), причастия «возлюбленный», «любящий» (в разном лице и числе), глаголы «воз/по/любить» (в разном времени, лице и числе).
Интересно, что в «Библии короля Иакова» слова из семантического поля концепта «love», имеющие положительный нравственный смысл, используются более часто, чем в синодальном переводе Библии: в Ветхом Завете 326 раз – это Lovingkindness (милость), loving , lovely , Love , (be)loved , архаичные формы глагола to love : lovest , loveth , lovedst . В Новом Завете эти же слова в английском тексте также встречаются чаще, чем в синодальном переводе – 328 раз (при этом Lovingkindness , loving не используются совсем).
Рассмотрим теперь понятийно-образные характеристики концепта «любовь» соответственно в Ветхом и Новом Заветах.
В целом библейские тексты говорят о двух видах любви, о которой ничего не сказано в античной мысли, – любви Бога к миру и человеку и любви человека к Богу. Любовь Бога к человеку, например, показана в Ветхом Завете в словах: «Господь Бог твой любит тебя» / the Lord thy God loved thee (Втор. 23: 5). В Новом Завете находится известная фраза : «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» / For God so loved the world, that he gave his only begotten Son (Ин. 3: 16).
В свою очередь, любовь человека к Богу в Ветхом Завете видна в словосочетаниях «любить Господа» / to love the Lord your God (например, во Второзак. 11: 13, Иисуса Навина 22: 5), «любить имя Господа» / to love the name of the Lord (Ис. 56: 6).
В Новом Завете глагол «любить» указывает на Бога (1 Ин. 4: 20; 1 Кор. 8: 3), на Иисуса Христа (1 Кор. 16: 22). Здесь проводится прямая связь между любовью и познанием Бога, например: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» / He that loveth not knoweth not God; for God is love (1 Ин. 4: 8).
Ветхий Завет призывает любить истину и мир / love the truth and peace (Зах. 8: 19), любить дела милосердия / love mercy (Мих. 6: 8), любить душу свою / love (his) own soul (Прит. 19: 8), любить чистоту сердца / love pureness of heart (Прит. 22: 11), возлюбить добро / love the good (Ам. 5: 15), любить пришельца / love the stranger (Втор. 10: 18, 19). Псалмопевец говорит также: «Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость» (Пс. 50: 8). Этим строкам соответствует в «Библии короля Иакова» отрывок из Псалма 51: 6: Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden [part] thou shalt make me to know wisdom . Несмотря на нюансы перевода (используются не только разные глаголы, но и разное наклонение, разное время), в обоих переводах видно, что именно любовь к истине открывает путь к мудрости.
В текстах Ветхого Завета мы находим такие выражения, входящие в поле концепта «любовь», как любимое дитя / pleasant child (Иер. 31: 20), нежно любимый и единственный сын / son, tender and only beloved (Прит. 4: 3). Концепт любовь в Ветхом Завете раскрывается также в таких метафорах, как: «воскипела любовь к брату его» / his bowels did yearn upon his brother (Быт. 43: 30), «прилепился <…> любовью» / clave <…> in love (3 Цар. 11: 2), «любовь покрывает все грехи» / love covereth all sins (Пр. 10: 12).
В новозаветных текстах христиане призываются любить ближнего как самого себя / to love his neighbour as himself (Мар. 12: 33), любить друг друга / love one another (1 Ин. 3: 23; 4: 7), любить своих мужей, любить своих детей / to love their husbands, to love their children (Тит. 2: 4), свою жену как самого себя / love his wife even as himself (Еф.5: 33), любить братство / love the brotherhood (1 Пет. 2: 17), любить братьев / love the brethren (напр., 1 Иоан. 3: 14), любить детей Божиих / love the children of God (1 Ин. 5: 2).
В Новом Завете также появляется антиномия «любить любящих» / love those that love them (напр., Лк. 6: 32) и «любить врагов» / love your enemies (напр., Лк. 6: 27), которой не было в Ветхом Завете, и ни в одной религии вообще. С этой антиномией связано понятие «человеколюбие» (Деян. 28: 2), которое в синодальном переводе Библии вместе с однокоренными словами «человеколюбивый», «человеколюбиво» встречается 4 раза. В «Библии короля Иакова» им соответствуют kindness (дословно «доброта, доброжелательность») (Деян. 28: 2), courteously (дословно «учтиво, вежливо, обходительно») (Деян. 27: 3). При этом в Ветхом Завете слово «человеколюбивый» (в английском варианте – merciful – милосердный, милостивый, сострадательный) применяется только в отношении Бога: «Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» / The Lord God, merciful and gracious, longsuffering, and abundant in goodness and truth (Исх. 34: 6). Однако в Новом Завете понятие «человеколюбивый» мы находим не только в словах о Спасителе («Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога» / But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared) (Тит. 3: 4), но также и при описании поступков человека по отношению к человеку (см. выше Деян. 27: 3; 28: 2). В этом, на наш взгляд, виден намёк на истину, которая дана в христианстве: любовь к человеку, которая свойственна Богу, теперь становится доступной человеку – необходимо и нормально любить человека вообще, независимо кто он тебе – брат, жена, муж, друг или враг.
В Новом Завете подчеркивается деятельный характер любви: «станем любить не словом или языком, но делом и истиной» / let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth (1 Ин. 3: 18).
Как и в Ветхом Завете актуальным для христиан, согласно текстам Нового Завета, остаётся призыв любить странников / strangers (которые называются в русском тексте Ветхого Завета «пришельцами», напр., во Втор. 10:19), на что указывают однокоренные слова от существительного «страннолюбие» (1 Пт. 4: 9, 1 Тим. 3: 2, Тит. 1: 8, Евр. 13: 2). В «Библии короля Иакова» мы находим соответственно в упомянутых отрывках выражения: given to hospitality («гостеприимный»); hospitality one to another («гостеприимство друг другу»); a lover of hospitality («любящий гостеприимство»); to entertain strangers («принимать странников»).
Если сопоставить виды любви в древнегреческом языке, о которых говорилось выше при рассмотрении слова в философском аспекте, т.е. «эрос», «филиа», «агапэ», «сторгэ » , то самой очевидной для Священного Писания является аналогия с античным понятием «сторгэ» – это любовь к жене, мужу, детям, отцу, матери, сыну, дочери, брату.
Что касается «филиа» и «агапэ», то, по наблюдению о. Павла Флоренского, в некоторых случаях в Священном Писании Нового Завета «агапэ» и «филиа» почти взаимозаменяемы, в других дифференцируются [15: 325].
Так, «агапэ» в греческом переводе Нового Завета применяется, когда речь идет о заповеди любви к Богу и к ближним, а также к врагам. Когда же Евангелия рассказывают о любви Господа к Лазарю, используется то «филиа», то «агапэ» (Ин. 11: 3, 5, 36; Ин. 20: 21, 13: 23, 19: 26, 21: 7). Христос Воскресший упрекает Петра, что он нарушил именно дружескую любовь – «филиа», и поэтому, переспрашивая его «Любишь ли ты меня?», Христос тем самым хочет показать, что если возврата к «филиа» уже нет, то должен быть возврат, по крайне мере, хотя бы к «агапэ», т.е. любви, которую должно питать ко всем людям [15: 325–326].
Что же касается любви «эрос», то в Ветхом Завете, с одной стороны, можно найти обширные семантические ряды метафор телесности и человеческой влюблённости, которые содержатся в Песни Песней царя Соломона, например: « Ибо крепка, как смерть, любовь»/ for love [is] strong as death (Песнь Песней 8: 6); «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её» / Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it (Песнь Песней 8: 7). Главное содержание этой книги – чувства влюблённых. Само название «Песнь Песней» означает превосходнейшую, наилучшую из всех других песней. Интересно, что, несмотря на эротические образы и несмотря на то, что слово «Бог» не встречается в Песни Песней ни разу, в сирийском переводе Библии Пешито эта книга переведена как «Премудрость - 186 -
Премудростей». Этим показывается, что «Песнь Песней» не простой шедевр любовной лирики, но имеет неизмеримо высокое достоинство [8]. Как пишет о. Александр Мень, в аллегорическом толковании иудейских комментаторов Невеста и Жених из Песни Песней являются символическими образами Яхве и Израиля. Эта символика была воспринята в христианстве благодаря апостолу Павлу, который ввел понятие таинственного брака Церкви со Христом (Еф. 5: 32) [9]. Любовь в Песни Песней изображена как могущественная сила , преодолевающая все преграды. О. Александр Мень подчёркивает: «Именно то, что земная любовь становится в Библии символом отношений между Богом и человеком, делает её еще прекрасней» [там же].
Хотя любовь «эрос» и её образные характеристики можно найти в ветхозаветных текстах не только в Песни Песней, но также в Притчах (например, в синодальном переводе Прит. 5: 19 о законной жене сказано: «любовью её услаждайся постоянно», а в Прит. 7: 18 описывается ситуация запретной любви: «насладимся любовью»), в целом, по наблюдению о. Павла Флоренского, исследовавшего перевод Септуагинта, в греческом тексте Библии слова «эран» и «эрос» «почти исключены из книг Ветхого Завета и вовсе не допущены в книги Нового Завета» [15: 323]. Отметим при этом такой факт, что в «Библии короля Иакова» вышеуказанные стихи опущены совсем (в современном переводе New Revised Standard Version 1989 г. они, однако, есть).
Действительно, в отличие от текста Ветхого Завета даже по описательным характеристикам в тексте Нового Завета ничего не говорится о страстной любви «эросе». Возможно, такое умолчание имеет цель поднять статус женщины и превратить её из простого объекта для эротического наслаждения, в личность, вернуть ей то положение, которое она, согласно христианскому богословию, имеет с мужчиной наравне, будучи, как и он, образом Божиим (Быт. 1: 27). Интересно также отметить, что в новозаветных текстах дважды встречается повеление, которое апостол Павел обращал в своих письмах к эфесянам и колоссянам «Мужья, любите своих жён» (Еф. 5: 25, Кол. 3: 19), но призыв к женам любить мужей встречается в Новом Завете всего лишь один раз, причём во фразе, напутствующей на брак: «чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей» (Тит. 2: 4). В послании эфесянам жене предписывается не любить, а именно «бояться мужа своего» (Еф. 5: 33). Таким образом, о страстной любви жены к мужу даже в пределах брака в новозаветных текстах сознательно умалчивается.
С другой стороны, термины «эрос», как замечает о. Павел Флоренский, используют отцы-мистики: Григорий Нисский, Николай Кавасила, Симеон Новый Богослов [15: 325]. Возможно, святые отцы хотят показать этим необычайную силу, которой может достигнуть любовь человека к Богу: ближе всего к ней по своей силе в земной жизни является любовь «эрос», т.е. любовь, возникающая между мужчиной и женщиной.
Какова же природа любви согласно Священному Писанию? В этом отношении будет интересно рассмотреть отрывок из Фил. 1: 9, «и молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве» / And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and [in] all judgment . Для любви здесь как бы дано два основных направления её понимания - познание и чувство. Но что нужно понимать под
«чувством» в тексте Священного Писания? Ответ находим в Евангелии Луки: рассказ о том, как именно была исцелена женщина, много лет страдавшая кровотечением и тайно прикоснувшаяся в толпе к одеждам Иисуса Христа в надежде на исцеление. Христос свидетельствовал: «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу , исшедшую из Меня» / Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me (Лк. 8: 46). В этом высказывании Христа видна явная связь между чувством и силой, т.е. энергией. Поэтому мы можем говорить, что если любовь понимается как чувство (согласно Фил. 1: 9), а чувство как энергия (согласно Лк. 8: 46), то отсюда в целом в Новом Завете можно усмотреть понимание любви как энергии.
Хотя Новый Завет молчит о любви «эросе», он уделяет внимание браку, т.к. браком христианство пытается упорядочить естественную страстную любовь, налагает на неё узы, призывая к моногамии. За пределами брака, как известно, и в ветхозаветном понимании, и новозаветном любовь «эрос» часто сопровождается отрицательными последствиями, носит название прелюбодеяния или блуда. В Ветхом Завете четко осуждаются их явные проявления (что связано с богоустановленной заповедью «Не прелюбодействуй» / Thou shalt not commit adultery (Исх. 20: 14)). В Новом Завете такое отрицательное значение придается не только явному проявлению запретной любви «эроса» – любви за пределами брака, но и ее проявлению на уровне мысли, т.е. на уровне желаний («всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» / whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart (Мф. 5: 28)).
Действительно, чувственные интенции человека, будучи энергетическими по своей природе, могут быть настолько сильны, что становятся физически ощущаемы другим человеком – объектом вожделений и, таким образом, когда это совершается против его воли, являются насилием. При этом если «жертва любви» пробует защититься, она может встретиться с реакцией прямо противоположного характера со стороны насильно любящего. В этом отношении можно привести слова свящ. Александра Ельчанинова: «Из бесконечного количества явлений и лиц мы выбираем родственные нам, включаем их в своё расширенное «я» и любим их. Но стоит им отойти немного от того, за что мы их избрали, как мы изольём на них полную меру ненависти, презрения, в лучшем случае – равнодушия. Это человеческое, плотское, природное чувство <…> Оно непрочно, легко переходит в своё противоположение, принимает демонический характер» [6: 96].
Вообще Новый Завет говорит предпочтительно о любви «агапэ», причём говоря о Боге («Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8)). Как пишет о. Павел Флоренский, библейская «агапэ являет себя с чертами не человеческими и условными, а божескими и абсолютными» [15: 327]. У любви главное свойство – интенциональность, т.е. «направленность-из-себя», любовь есть именно «любящая». Если человек сотворен по образу Божию, то он тоже призван к тому, чтобы быть любовью, т.е. быть, прежде всего, любящим – так, любовь человеческая является образом любви Божией. И если по своей природе любовь Божия есть энергия, то человеческая любовь также есть разновидность энергии. Отличие только в том, что Божественные энергии нетварны, а энергия - 188 - человеческой любви тварная. Божественная любовь есть любовь созидающая, умиротворяющая, дарующая жизнь и приводящая человека к добру.
Только когда происходит соединение человеческой любви с любовью Божией, раскрываются в полной мере характеристики той христианской любви «агапэ», о которой пишет апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (Кор. 13: 4–7). Интересно, что в этих же строках в «Библии короля Иакова» слово любовь переведено как «милосердие», т.е. charity (по-видимому, так переводчики постарались передать нюансы греческого языка, переводя слово «агапэ») : Charity suffereth long, [and] is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things .
К характеристикам любви «агапэ» относится также отсутствие страха: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» / There is no fear in love; but perfect love casteth out fear (1 Ин. 4: 18), а также невозможность причинить зло ближнему: «Любовь не делает ближнему зла» / Love worketh no ill to his neighbour (Рим. 13: 10).
Заключение
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. В русскоязычном и англоязычном переводах Библии в ветхозаветных текстах встречаются обширные семантические ряды концепта «любовь», которые расширяются в новозаветных текстах, при этом русский перевод отличается обилием морфологических форм с корнем «люб», а английский перевод в соответствующих фрагментах часто содержит другие лексические формы, близкие по смыслу.
Исследование текста Нового Завета также показывает, что концепт «любовь» напрямую связан с концептом «Бог» и именно поэтому обладает деятельным, интенциональным характером, что подчёркивается глаголами, использованными в Кор. 13: 4–7.
Греческая четверица любви («эрос», «агапэ», «сторгэ», «филиа») при переводе на русский и английский языки в библейских текстах представлена по-разному: в русском переводе нет нюансов этой четверицы, для всех случаев применяется слово «любовь», в английском переводе «Библии короля Иакова» нюансы в отношении «агапэ» могут передаваться через использование иных слов. Например, для перевода с греческого языка любви «агапэ» в Кор. 13: 4–7 использовано слово charity («милосердие»). Описания любви «эроса» и её образных характеристик в ветхозаветных текстах (например, в Песни Песней и Притчах) по общепринятому толкованию Библии интерпретируются на возвышенном уровне отношений Бога и Израиля (у иудейских герменевтов), либо Христа и Церкви (у христианских экзегетов).
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/sofija-logos-slovar/136 . (Дата обращения: 18.07.2018.)
Список литературы Понятийно-образные характеристики концепта "любовь" в лингвофилософском аспекте (на материале синодального перевода библии и King James Bible)
- Аверинцев С. София-Логос. Словарь. //Собрание сочинений/Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2006. 912 с. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/sofija-logos-slovar/136. (Дата обращения: 18.07.2018.)
- Алефиренко Н.Ф. Концепт -понятие -категория в свете современной лингвокогнитивистики//Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2010.№ 18 (89). Вып.7. С. 5-12.
- Библия: подстрочный перевод//Biblezoom: углубленное исследование библейского текста он-лайн. URL: http://www.biblezoom. ru (Дата обращения: 15.08.2018.)
- Верещагин Е.М. Библия короля Иакова и Библия митрополита Филарета: сходства перевешивают различия//Библия короля Иакова: 1611-2011. Культурное и языковое наследие/отв. ред. д-р филол. наук Е. Б. Яковенко. М.: БукиВеди, 2013. 250 с. С. 172-200.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус.яз., 1999. Т.2: И-О. 779 с.
- Ельчаниннов А., свящ. Православие для многих. Отрывки из дневника и другие записи. М.: Дарь, 2006. 352 с.
- Ефремова Т.Ф. Н Новый словарь русского языка. Толково-образовательный . М.: Рус. яз. 2000. в 2 т. 1209 с. URL: https://www.efremova.info. (Дата обращения: 15.08.2018.)
- Лопухин А.П. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета //Т. 1-11. 2-е изд. Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_51/26. (Дата обращения: 17.06.2018.)
- Мень А. Исагогика. Песнь Песней . URL: https://www.bible-center.ru/book/isagogika/002/003. (Дата обращения: 17.08.2018.)
- Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/Под ред. Чл.кор. АН СССР Н.Ю.Шведовой.19-е изд., испр. М.: Рус.яз., 1987. 750 с.
- Полетаева Т.А. Социокультурный аспект когнитивно-дискурсивной парадигмы христианской лексики (на материале King James Bible и New Revised Standard Version): монография. Белгород: Апробация, 2018. 142 с.
- Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал//Соловьев В.С. Собр. соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. 892 c. C.581-756.
- Соловьев В.С. Смысл любви//Соловьев В.С. Собр. соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. 822 c. C.493-547.
- Ушаков Д. Толковый словарь русского языка /В 4 т./М.: ТЕРРА -Книжный клуб, 2007. 752 с. URL: http://ushakovdictionary.ru. (Дата обращения: 17.06.2018.)
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи. М.: АСТ, 2003. 640 с.
- Longman Dictionary of Contemporary English . 2014. 2224 p. URL: https://slovar-vocab.com/english/longman-vocab. (Дата обращения: 12.08.2018.)
- Oxford English Dictionary (Second edition), edited by John Simpson and Edmund Weiner . Clarendon Press, 1989, 20 volumes Oxford University Press, 2005. URL: https://en.oxforddictionaries.com. (Дата обращения: 12.08.2018.)
- The Holy Bible containing Old and New Testaments and the Apocrypha translated out of the original tongues: and with the former translations diligently compared and revised, by his Majesty’s special command . Cambridge: University Press. 872 p.
- The Holy Bible. New Revised Standard Version. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1989. 816 с.