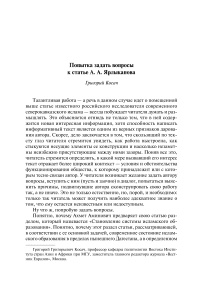Попытка задать вопросы к статье А. А. Ярлыкапова
Автор: Косач Григорий Григорьевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Образование
Статья в выпуске: 2, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911836
IDR: 14911836
Текст статьи Попытка задать вопросы к статье А. А. Ярлыкапова
Талантливая работа — а речь в данном случае идет о помещенной выше статье известного российского исследователя современного северокавказского ислама — всегда побуждает читателя думать и размышлять. Это объясняется отнюдь не только тем, что в ней содержится новая интересная информация, хотя способность написать информативный текст является одним из верных признаков дарования автора. Скорее, дело заключается в том, что скользящий по тексту глаз читателя стремится увидеть, как работа выстроена, как стыкуются несущие элементы ее конструкции и насколько незаметны неизбежно присутствующие между ними зазоры. Поняв все это, читатель стремится определить, в какой мере вызвавший его интерес текст отражает более широкий контекст — условия и обстоятельства функционирования общества, к которому принадлежит или с которым тесно связан автор. У читателя возникает желание задать автору вопросы, вступить с ним (пусть и заочно) в диалог, попытаться выяснить причины, подвигнувшие автора сконструировать свою работу так, а не иначе. Это не только естественно, но, порой, и необходимо: только так читатель может получить наиболее адекватное знание о том, что ему остается неизвестным или недоступным.
Ну что ж, попробую задать вопросы.
Понятно, почему Ахмет Аминович предваряет свою статью разделом, который называется «Становление системы исламского образования». Понятно, почему этот раздел статьи, рассматривающей, в соответствии с ее основной задачей, современное состояние исламского образования в пределах нынешнего Дагестана, а в определенном
Григорий Григорьевич Косач, профессор кафедры политологии Востока Института стран Азии и Африки при МГУ, заместитель главного редактора журнала «Вестник Евразии», Москва.
смысле и шире — в соседних северокавказких регионах, становится одной из несущих конструкций статьи. Автору принципиально важно — и это стремление не может вызвать никаких возражений — представить мне, своему читателю, как можно более объемную картину избранной им исследовательской проблемы. Разумеется, сделать это возможно и не обращаясь к истории — но сколь ущербной будет выглядеть картина, лишенная необходимого для нее фона прошлого! Однако, как это вытекает из прочитанного мною текста, автор создает фон не просто прошлого, а прошлого величия .
В том, что я называю «прошлым величием», мой глаз читателя обнаружил первый конструкционный зазор. Возник первый вопрос, важный не с точки зрения добросовестности предоставляемой мне информации (добросовестность несомненна), а с точки зрения отношения самого автора к этой информации, которая для него, как мне кажется, бесспорна.
Действительно, первые медресе появились в мусульманском мире только в Х веке, и инициатором их создания был Низам Аль-Мульк 1. Процитирую Ахмета Аминовича: «Первое на Северном Кавказе медресе было построено в селении Цахур не позднее конца XI века». И далее: «Для сравнения: первое медресе в Мекке было построено лишь в 1183 году, в Тунисе (речь идет об упоминаемой в статье Аз-Зайтуне2.— Г. К. ) — и вовсе в 1252 году». Я ни в коей мере не ставлю под сомнение результаты изысканий тех дагестанских ученых, на которых он ссылается. Но эти результаты вплетены в его статью и потому и становятся одним из зазоров текста, конструируемого им самим. И мне хотелось бы обратить внимание Ахмета Аминовича на то, что этот зазор слишком заметен.
Разумеется, детальное воссоздание истории распространения медресе в пределах современного Дагестана не является задачей статьи Ярлыкапова. В ней, однако, подчеркивается, что Южный Дагестан уже в Х веке активно участвовал в формировании медресе как отдельного образовательного института и даже опережал в этом отношении многие другие районы исламского мира. Соответственно, у читателя может (или должно?) создаться впечатление, будто называемая Дагестаном территория, определяемая в пространстве с помощью нынешних административных границ, которых не было в прошлом, сыграла очень важную роль в эволюции значительно более обширного мира распространения ислама, занимала в этом мире едва ли не центральное положение. Но, пусть современное исламоведение и не в состоянии сейчас четко провести временной рубеж, разделивший мечеть и медресе (время начинаний Низам Аль-Мулька кажется все же условным рубежом), оно, по крайней мере, позволяет понять, как и почему происходило это разделение.
Багдадская Ан-Низамийа создавалась великим вазиром для почитаемого им человека — выдающегося шафиитского факиха Абу Исхак Аш-Ширази. Что ж, личностные отношения играют подчас огромную роль. А что происходило, когда их влияние не сказывалось? Мы видим, что при становлении институтов государственного управления возникшие в Мавераннахре и Хорасане медресе лишь постепенно и только по мере необходимости распространялись в мире ислама. Некоторые его значительные как по территории, так и по уровню цивилизационного развития регионы сравнительно поздно столкнулись с необходимостью иметь медресе. Самый яркий пример тому — Андалусия, где первое медресе (в Гранаде) появилось только в ХIII веке.
Причины создания медресе имеют куда большее значение, чем абстрактная приоритетность («кто был первым»). Низам Аль-Мульк или, скажем, Хафсиды Ифрикийи (некое соответствие нынешнего Туниса) приступали к созданию медресе в определенном месте и в определенное время. Старая традиция передачи связанной с жизнью Мухаммеда информации отходила в прошлое: человеческая жизнь, включая жизни тех, кто так или иначе был связан с Пророком, недолговечна. Мусульманский мир в целом сталкивался с необходимостью противостоять вызову тех, кто под лозунгами еретического (да простит мне Ахмет Аминович невольную христианизацию ислама) толкования Закона стремились обрести власть в Халифате; а правители обособляющихся частей этого мира — те же ифрикийские Хаф-сиды — с не менее острой необходимостью укрепления вновь создававшихся политических образований.
И Низам Аль-Мульк, и Хафсиды нуждались в скрепляющей государство единообразной идее и в ее проповедниках, в тех, кто был способен толковать Закон, исходя из высших интересов власти, — будь то в рамках шафиитского ли, как в Ан-Низамийе, или маликит-ского, как в Аз-Зейтуне, мазхаба . И неважно, что противниками Низам Аль-Мулька были исмаилиты, а противниками Хафсидов — хариджиты и стоявшая за ними берберская вольница. Важно, что медресе, готовя толкователей Закона, по этой самой причине оказались средством решения очевидно целеположенных политических задач в границах определенных территориально-государственных единиц своего времени.
Но среди этих единиц, увы, не было ни «Южного Дагестана», ни «Дагестана» сегодняшнего дня. Была лишь одна из многих провинций управлявшегося из Багдада Халифата. Границы ее не совпадали с границами нынешней республики, тем не менее и в ней было необходимо распространить все ту же единообразную и для правителей халифатской столицы, и для жителей окраин шафиитскую идею. С этой точки зрения говорить о дагестанском «активном участии» в процессе создания медресе, наверное, нонсенс.
И что из того, что выходцы с территории современного Дагестана преподавали шафиитское право в золотоордынской столице? Разве ислам не прозелитическая религия? А если «не менее пяти дагестанцев» и «обосновались в Дамаске или Алеппо в качестве преподавателей арабского языка и канонических наук», то не стоит очаровывать читателя названиями этих городов. Территория современной Сирии становилась зоной распространения все того же шафиитского мазха-ба, туда и должны были устремляться талантливые выходцы из области, являвшейся (по крайней мере, в ХVIII веке) отсталой периферией.
Я должен, видимо, не ограничиваться намеками, а ясно сказать еще об одном видимом зазоре в конструкции статьи Ярлыкапова. Первопричина его — опять-таки в том, что я назвал «прошлым величием»; но речь, может быть, идет и о чем-то большем.
Когда мы исследуем прошлое интересующих нас региональных составляющих современных государств (или прошлое этих государств в целом), мы невольно — хотя порой я начинаю сомневаться в том, что это действительно невольный поступок — распространяем на ушедшее время ситуацию времени сегодняшнего дня, включая и нынешний административный или политический статус этих регионов и государств. Я думаю, Ахмет Аминович согласится со мной: тем самым мы творим миф. Создаваемая нами история региона или страны, в том числе и история системы образования, не приближает, но, напротив, бесконечно отдаляет нас от той исторической реальности, на реконструкцию которой мы претендуем. И дело не ограничивается искажением того, что было давно и давно миновало. Даже если мы исходим из благородных в общественном смысле побуждений, мы представляем читателям наших работ такую ретроспективу прошлого, которая искажает картину настоящего и задает неверную перспективу будущего. А это уже проблема не только научно-аналитическая, но и политическая.
Не могу не указать и на еще один конструкционный зазор, обязанный своим появлением «прошлому величию». Имеется в виду обращение Ахмета Аминовича (следующего здесь примеру своих дагестанских коллег) к авторитету И. Ю. Крачковского.
Книгу о нем, вышедшую в первой половине 1990-х годов, автор, одна из его учениц, назвала «Невольник долга» 3. В контексте моих вопросов к Ярлыкапову это очень значащее название. В ней, в частности, рассказывается, как в начале 1930 годов в Ленинградском университете, на волне кампании по введению латинизированных алфавитов для «мусульманских» народов Советского Союза, было на время прервано преподавание арабского языка 4. К тому же Крачковский был лишен возможности выезжать за границу. В результате «та область арабистики, в которой Крачковский считался — на мировом уровне — общепризнанным лидером, то есть история новоарабской литературы, отныне если не закрыта была перед ним, то все время он должен был ощущать неполноту своей осведомленности в ней, определенную неуверенность: а вдруг какой-то существенный материал упущен?» 5 Закрытой оказалась и другая тема, «быть может, самая любимая — христианско-арабская литература». Более того, «“антирелигиозный пресс” задел... и работу в области мусульманской литературы: перевод Корана, начатый еще в 1921 году, был закончен летом 1928-го и... лег в стол мертвым грузом, не получив окончательной отделки». Но «долг» — арабистика — заставлял Крачковского искать и находить выход из невыносимого для него положения. Одним из вариантов выхода и было обращение к арабоязычной литературе российского Дагестана.
Когда Ахмет Аминович пишет о «крупнейшем отечественном востоковеде академике И. Ю. Крачковском», развивавшем одно (замечу, содержащееся в небольшой заметке для «Энциклопедии Ислама») из высказываний другого не менее значительного российского востоковеда В. В. Бартольда по поводу арабоязычной северокавказской литературы, то, право же, у его читателя (у меня) может возникнуть впечатление, что эта литература была едва ли не основным предметом занятий Крачковского. Я не могу упрекнуть Ярлы-капова в неверном цитировании работы Крачковского, специально посвященной этому вопросу, — написанной в 1948 году статьи «Арабская литература на Северном Кавказе». Я даже добавлю, что в другой своей статье, в датированных 1944 годом «Общих соображениях о плане истории арабской литературы», Крачковский подчеркивал: «история арабской литературы, появляющаяся на русском языке, будет неполной», если в нее не будет включен «дополнительный раздел — об арабской литературе среди народов СССР в прошлом». Этот раздел «осветит... например, арабскую письменность на Кавказе, которая стала открываться только в последние годы» 6.
Все же вернемся к более известной статье 1948 года. В ней Крачковский писал: «Что арабский язык в разные периоды своей истории был широко распространен за пределами и чисто арабских стран, давно известно в науке, но Северный Кавказ в этом отношении выделяется». И далее: «Ни в одной из неарабских стран местная литература, возникшая на арабском языке, не сохраняла в такой мере полной жизненности до второй четверти ХХ в.». И даже: «...В конце ХVI — начале ХVII в. в Северном Дагестане замечается своеобразный “ренессанс” средневековой арабской литературы». Но если ранее эта литература существовала «примерно на широте Дербента», то «теперь» она получила развитие в «районах преимущественно к северу от указанной границы». Иными словами, «детальное изучение процесса исламизации Дагестана приводит к тому, что традиционное для ХIХ — ХХ вв. представление о древнем распространении ислама среди горского населения Дагестана приходится считать фикцией» 7. Крачковский заключает: с ХVI века вторая волна арабского влияния, конкретно — связи шафиитского Йемена с дагестанским очагом того же мазхаба 8, «постепенно создала в Дагестане... местную оригинальную литературу на арабском языке». Однако «это явление не представляет чего-либо исключительного» 9.
«Эта литература за свое трехвековое существование знала один период особого расцвета, который является и апогеем ее развития. Он падает на конец ХVIII и первую половину ХIХ в., приблизительно до 70-х годов. Он отражает известное движение мюридизма на Кавказе и, особенно, долголетнюю борьбу с царским правительством третьего имама, знаменитого Шамиля». Но к концу ХIХ века она принимает «эпигонский характер», и ее исследование совсем не обязательно должно привести к обнаружению сколько-либо действительно значительных произведений: «Нельзя ожидать, что арабская литература Кавказа внесет какие-либо произведения в сокровищницу мировой литературы». Наконец, следует суждение суровое, но высказанное человеком, не обольщавшимся политическими мифами: «Арабская литература Кавказа возникла уже тогда, когда творческий период общеарабской литературы давно закончился. Развиваясь на периферии воздействия арабской культуры, она росла как литература провинциальная, такого приблизительно типа, как современная ей литература Центральной Африки или Балкан». И окончательный вывод: «Это типичная схоластическая литература средних веков. Она энциклопедична, но в центре ее внимания лежат науки канонические, особенно экзогез и право», математика нужна лишь «для решения вопросов наследственного права», астрономия — «для вычисления точного времени постов и молитв» 10.
Ярлыкапов пишет: «Крачковский отнес время появления “местной оригинальной литературы на арабском языке” в Дагестане, Чечне, Ингушетии, отчасти Кабарде и Черкесии ко времени после XVI века. Однако последние исследования дагестанскими учеными местного арабского рукописного наследия позволили им выделить более ранний этап формирования местной дагестанской литературы на арабском языке: X–XV века». Конечно, после кончины Крачковского наука не стояла на месте. Но удалось ли коллегам Ахмета Аминовича обнаружить среди этой вновь открытой «дагестанской литературы» (вот определение, ярко свидетельствующее о возникновения того самого, вырастающего из невинной филологии политического мифа!) какие-то произведения, достойные того, чтобы внести их в «сокровищницу мировой литературы»? И на чем основывается следующий посыл — «с конца XV века медресе становятся здесь (то есть на территории нынешнего Дагестана. — Г. К. ) главными очагами духовной жизни общества»? Это ведь просто красивые слова, они лишь путают читателя, поскольку далее автор дает описание типичного, как я понимаю, северокавказского медресе, позволяющее читателю сделать печальные выводы и о состоянии традиционного образования и, увы, уровня общественного развития. Мне возразят, что оно относится к началу XX века. Но из посыла не следует, что по сравнению с той эпохой, когда медресе были «центрами духовной жизни», в содержании и методах преподавания в них что-то кардинально изменилось в худшую сторону. Изменилась жизнь — но вопреки, а не благодаря деятельности пресловутых «центров»...
Впрочем, важнее другое. Хотя Крачковский обращался к феномену арабоязычной литературы Северного Кавказа скорее всего от безысходности, он все равно оставался верен историческому контексту ее бытования. Его суровый приговор этому ограниченному в сущности коротким временем побегу великой мусульманской цивилизации был обусловлен глубоким понимания функции северокавказской литературы на арабском языке. Первоначально то была функция пропаганды шафиитской доктрины, затем — функция ее поддержания, наконец, функция идейной мобилизации в героическую эпоху противостояния русским. А затем — умирание, причем в среде одних этнических групп Северного Кавказа более быстрое, в среде других — медленное. Ведь и сам Ахмет Аминович ссылается на мнение исследователя, высоко ценившегося Крачковским в качестве едва ли не первооткрывателя северокавказской арабоязычной литературы: количество выходивших в регионе в начале прошлого века «арабских изданий к числу изданий на турецких (“татарских”) языках» составляло «отношение 1 к 31/2». Сколь же неоднородным оказывается реальный, а не политически мифологизированный регион нынешнего Дагестана!
Приведу и свой дополнительный пример. Описание северокавказского медресе начала XX века удивительно похоже на описание медресе того же времени в стране, теперь называющейся Алжиром, а до начала 1960-х годов считавшейся интегральной (хотя и расположенной по другую сторону Средиземного моря) частью Франции. И так же похожа там в определенном временем локальном историческим контексте роль высокого арабского языка, которую этот язык играл на территории бытования разнообразных форм народной арабской речи, испещренной к тому же значительными и политически активными вкраплениями бербероязычного населения 11. Пусть даже это сравнение не вполне корректно, но трудно не заметить — и не сопоставить со свежим опытом Дагестана, — сколь незначительными по своим итогам уже в независимом Алжире оказались все попытки внедрить в повседневную жизнь людей то, что в эпоху пребывания в составе Франции пестовали местные улемы : высокий арабский язык и связанную с ним культуру. В столь критически оцениваемом Ярлыкаповым положении действующих в нынешнем Дагестане религиозных учебных заведений я (возможно, ошибочно) вижу явную параллель с сегодняшней лингвистической ситуацией в Алжире, включая и ее образовательный аспект. Впрочем, если уж и говорить о функциональности все того же высокого арабского языка и об основанном на нем образовании, то здесь можно найти более четкое соответствие между сегодняшним Дагестаном и современным Алжиром — в той роли, которую этот язык и это образование, так сказать, непреднамеренно сыграли в процессе формирования людей, во франкоязычной литературе об Алжире называемых религиозными интегристами , а Ярлыкаповым (как и подавляющим большинством российских авторов) — «идеологами ваххабитского движения» и их последователями.
Краткое последнее замечание. Ярлыкапов прав, говоря о том, что ответ на вопрос о причинах слабости северокавказского ответвления джадидизма не может быть сейчас получен. Тем не менее у него, как у специалиста, должно быть свое внутреннее интуитивное предположение, что это были за причины, и его, на мой взгляд, стоило высказать в качестве гипотезы. Быть может (как исследователь, я абсолютно далек от северокавказского региона и всего лишь задаю вопрос), при «озвучивании» этого предположения всплыла бы сама собой идея травмы как итога Кавказских войн и, как следствия этой травмы, самоизоляции не только от русских, но и от поволжско-уральских и крымских единоверцев? И, быть может, различные народы Северного Кавказа по-разному перенесли эту травму? Я лишь основываюсь на фактах, сообщаемых самим автором, а среди них мы находим и такой: на Северном Кавказе «больше всего книг (в которых отразилось влияние джадидов. — Г. К.) выходило на тюркских языках». Исключительно из содержания статьи напрашивается вывод: даже частичный выход из этой самоизоляции оказался в конечном счете столь трудным и мучительным и настолько был осложнен советскими преследованиями религии и религиозных деятелей (бывших одновременно и национальными деятелями), что этап нынешнего возрождения исламского образования в Дагестане и должен был принять лишь те его формы, которые описывает Ярлыкапов.
Меньше всего мне хотелось бы, чтобы Ахмет Аминович отнесся к этой попытке задать ему вопросы как к желанию подвергнуть его статью сокрушительной критике. Мне всего лишь хотелось показать, что дискурс его работы являет один из многих примеров того, как сложно происходит становление современной российской государственности, как трудно примирить во многом разновекторные ориентации населяющих страну народов, составляющих ее регионов. Да что там — трудно примирить интересы различных фракций в составе этнических и региональных элит. Так не стоит ли хотя бы историкам, по мере наших сил и возможностей, оставаться вне мифотворчества современных политиков или уж, по крайней мере, не участвовать в нем?
Список литературы Попытка задать вопросы к статье А. А. Ярлыкапова
- Gibb H. A. R., Kramers J. H. (eds.). The Shorter Encyclopedia of Islam. Ithaca, 1970. P. 300-310.
- Abdel Mula M. L'Université Zaytounienne et la société tunisienne. Tunis, 1971.
- Долинина А. А. Невольник долга. СПб., Центр «Петербургское востоковедение», 1994.
- Крачковский И. Ю. Общие соображения о плане истории арабской литературы//Академик Игнатий Юлианович Крачковский. Избранные сочинения. Т. II. М.-Л., Изд-во Академии наук СССР, 1956. С. 571.
- Крачковский И. Ю. Арабская литература на Северном Кавказе//Там же. Т. VI. М.-Л., Изд-во Академии наук СССР, 1960. С. 609.
- Крачковский И. Ю. Дагестан и Йемен//Там же. С. 574-584.
- Ланда Р. Г. История Алжира. XX век. М., Институт востоковедения РАН, 1999.