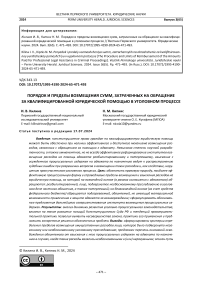Порядок и пределы возмещения сумм, затраченных на обращение за квалифицированной юридической помощью в уголовном процессе
Автор: Килина И.В., Кипнис Н.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь может быть обеспечено при наличии эффективного и доступного механизма возмещения расходов, связанных с обращением за помощью к адвокату. Невысокая степень научной разработанности, а также имманентное, но не всегда эффективное реформирование институтов возмещения расходов на помощь адвоката реабилитированному и потерпевшему, взыскание с осужденного процессуальных издержек на адвоката по назначению ведут к распространению судебных ошибок при разрешении вопросов о возмещении таких расходов и, как следствие, нарушению прав участников уголовного процесса.
Уголовный процесс, квалифицированная юридическая помощь, представитель потерпевшего, реабилитация, процессуальные издержки, пределы возмещения расходов на помощь адвоката
Короткий адрес: https://sciup.org/147244913
IDR: 147244913 | УДК: 343.13 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-65-471-493
Текст научной статьи Порядок и пределы возмещения сумм, затраченных на обращение за квалифицированной юридической помощью в уголовном процессе
Адвокатура как институт гражданского общества и неотъемлемый элемент правового государства призвана выполнять на территории Российской Федерации публичную функцию по обеспечению гарантированного каждому гражданину права на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ)1. Для уголовного судопроизводства, как допускающего наиболее существенное ограничение прав граждан, потребность в обращении за такой помощью приобретает особое значение – без организации государством эффективной, доступной и качественной правовой помощи подозреваемым, обвиняемым недостижимы доступность правосудия, равенство сторон судопроизводства, состязательность в уголовном процессе. Нередки ситуации, когда и потерпевший как жертва преступления не может рассчитывать на эффективную защиту и восстановление своих прав без обращения за помощью к адвокату – особенно остро такая потребность ощущается на ранних этапах уголовного процесса, когда бездействие правоохранительных органов способно лишить потерпевшего доступа к правосудию. Обеспечение имущественных прав лиц, обратившихся за помощью к адвокату, достигается посредством надлежащего регулирования института возмещения процессуальных издержек. Решение прикладного на первый взгляд вопроса о возмещении понесенных расходов в конечном счете оказывает серьезное влияние на реализацию права на получение квалифицированной юридической помощи сторонами уголовноправового конфликта.
В целях создания системы гарантий обеспечения права на получение квалифицированной юридической помощи требуют внимания различные аспекты затронутого вопроса: 1) обеспечение имущественных прав реабилитированных, то есть лиц, понесших финансовые затраты на обращение к адвокату в связи с необходимостью защиты от незаконного и необоснованного уголовного преследования со стороны государства, 2) возмещение необходимых и оправданных затрат, понесенных жертвами преступлений, вызванных необходимостью привлечения к процессу адвоката в качестве представителя потерпевшего для обеспечения эффективности уголовного судопроизводства, 3) незамедлительное предоставление государством защитников неимущим подозреваемым, обвиняемым, с одновременным соблюдением стандарта справедливого и обоснованного дальнейшего взыскания с осужденных процессуальных издержек, понесенных государством на предоставление лицу помощи адвоката по назначению. Авторы ставят перед собой задачу всестороннего анализа перечисленных аспектов и поиска решения выявленных проблем их эффективного воплощения в уголовном судопроизводстве.
В качестве защитника адвокат может участвовать в уголовном деле как по назначению дознавателя, следователя, суда, так и по приглашению подозреваемого, обвиняемого, его законного представителя, а также других лиц по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого (ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ))1. Режим правового регулирования возмещения расходов на адвоката, действующего в рамках заключенного с доверителем соглашения, обладает существенной спецификой в сравнении с аналогичным вопросом участия адвоката по назначению в порядке статьи 51 УПК РФ, что предопределяет необходимость отдельного анализа каждого из вариантов участия адвоката в качестве защитника. За получением квалифицированной юридической помощи в рамках уголовного судопроизводства, как было отмечено выше, вправе обратиться не только подозреваемый, обвиняемый, но и потерпевший. Особенность регулирования имущественных прав потерпевшего, в свою очередь, отличается в зависимости от вида уголовного преследования: в уголовных делах частного обвинения на потерпевшего возложена роль частного обвинителя, в уголовных же делах частно-публичного и публичного обвинения функция уголовного преследования реализуется должностными лицами органов расследования и прокуратуры, что существенно влияет на значение обращения потерпевших за помощью к адвокатам и, как следствие, пределы возмещения понесенных в связи с таким обращением расходов.
В последнее время на реформирование института возмещения участникам процесса процессуальных издержек на юридическую помощь оказывает существенное влияние Конституционный Суд РФ, предметом рассмотрения которого становились: и вопрос о пределах возмещения реабилитированному издержек на помощь адвоката (ст. 135 УПК РФ), и вопрос надлежащего обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь лицам, не имеющим материальной возможности обратиться к адвокату на возмездной основе (ст. 51 УПК РФ), и вопрос возмещения процессуальных издержек потерпевшего на представителя (ст. 132 УПК РФ). Вместе с тем, несмотря на усилия судебной и законодательной власти, о разрешении проблемы возмещения расходов на юридическую помощь говорить преждевременно, на что указывают результаты изучения судебной практики. В последние годы нормативный подход, позиции высших судов, а вслед за ними и практика нижестоящих судов претерпели существенные изменения в подходе к возмещению расходов участников уголовного судопроизводства на квалифицированную юридическую помощь, что требует актуального анализа вопроса.
Процессуальный порядок и пределы возмещения государством расходов реабилитированного лица на оплату юридической помощи адвоката
Подозреваемый, обвиняемый свободен в выборе приглашаемого защитника, а также вправе пригласить нескольких защитников. Такой подход позволяет в полной мере реализовать конституционное право подозреваемого, обвиняемого на защиту. В тех ситуациях, когда уголовное дело завершается принятием решения, гарантирующего лицу право на реабилитацию, у последнего возникает право на возмещение понесенных процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета (ч. 5 ст. 132 УПК РФ). Согласно пункту 35 статьи 5 УПК РФ реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием. Наиболее распространенным требованием о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным преследованием, является требование о возмещении расходов на оплату помощи адвоката.
Учитывая специфику правоотношений, возникающих между государством и лицом, подвергнутым незаконному или необоснованному уголовному преследованию, законодатель выделил в структуре процессуального кодекса отдельную главу 18 – реабилитация. Признанному за лицом праву на реабилитацию корреспондирует обязанность государства обеспечить возмещение любого вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием. Требование о возмещении имущественного вреда (включая расходы лица на оплату юридической помощи адвоката) подлежит разрешению в пределах установленных гражданским законодательством сроков исковой давности в порядке, установленном в статье 399 УПК РФ для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Доступность восстановления нарушенных прав обеспечивается установлением альтернативной подсудности разрешения требований реабилитированного (ч. 2 ст. 135 УПК РФ).
Вопрос о пределах возмещения расходов реабилитированного на оплату помощи адвоката на первый взгляд решается однозначно: установленный факт незаконного и необоснованного уголовного преследования предопределяет такой правовой режим, который гарантирует реабилитированному лицу как упрощенный процессуальный режим возмещения причиненного ему ущерба, так и полное возмещение вынужденно понесенных им затрат.
Вместе с тем в судебной практике не исключаются ситуации снижения размера возмещения затрат реабилитированного на юридическую помощь. Ключевую роль в выработке критериев определения сумм, подлежащих возмещению, играет Конституционный Суд РФ. Базовыми актами по данному вопросу можно считать Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2021 г. № 41-П1 (далее – Постановление КС РФ № 41-П), а также Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 г. № 708-О2 (далее – Определение КС РФ № 708-О).
Нельзя не отметить некоторую противоречивость позиций, сформулированных в указанных документах. В качестве первоосновы можно выделить базовые тезисы, отражающие фундаментальный подход к определению подлежащего возмещению размера затрат на адвокатскую помощь. Так, отправной императив Конституционного Суда РФ заключается в том, что «пункты 4 и 5 части первой статьи 135
УПК РФ не позволяют судам уменьшать до разумных пределов, исходя из принципов соразмерности и справедливости, подлежащую возмещению из бюджета в порядке реабилитации сумму, потраченную реабилитированным на оплату юридической помощи».
И в то же время Постановление изобилует оговорками о возможности отступления от общего правила о полном возмещении имущественного вреда реабилитированному. Дальнейшие рассуждения в приведенных актах выстроены вокруг формулирования критериев, которые все же позволяют уменьшить сумму возмещения в порядке реабилитации. Большая часть из них носит объективный характер и при адекватном применении не вызывает возражений, однако есть и критерии, субъективный и чрезмерно оценочный характер которых заслуживает критической оценки.
Первый критерий, сформулированный Конституционным Судом РФ: причинно-следственная связь как conditio sine qua non (непременное условие) обязательства возместить причиненный вред (п. 3.2 Постановления КС РФ № 41-П). В силу указанного критерия «возмещению подлежат фактические расходы реабилитированного, которые непосредственно находятся в причинно-следственной связи с оказанием ему юридической помощи». По настоянию КС РФ сумма возмещения может быть уменьшена, если часть расходов, предъявленных к возмещению, обусловлена явно иными обстоятельствами, нежели получение такой помощи непосредственно в связи с защитой реабилитированного от уголовного преследования. Справедливость данного тезиса вряд ли способна вызвать возражения. Позитивным примером неформального подхода суда к установлению причинно-следственной связи между затратами на юридическую помощь и реабилитацией выступает постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, в котором вышестоящая инстанция не согласилась с тем, что затраты на работу адвоката по оспариванию в арбитражном суде акта выездной налоговой проверки обвиняемого – индивидуального предпринимателя не находятся в причинной связи с оправданием гражданина по обвинению в совершении налогового преступления. Суд проверочной инстанции акцентировал внимание на том, что «в обоснование выводов об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, следователь ссылается на решения Арбитражного суда Пермского края об отмене решения налогового органа»3.
Второй критерий: избыточность затрат на помощь адвоката (п. 3.3 Постановления КС РФ № 41-П). Согласно тексту Постановления «избыточное возмещение вреда не исключено, когда реабилитированный рассчитывает на выгоды, явно не оправданные назначением реабилитации». Так, например, об объективной избыточности шла речь в случае взыскания лицом всей суммы вознаграждения защитника за помощь в уголовном деле, тогда как по одному эпизоду обвиняемый был оправдан, а по двум другим осужден. На избыточность такого имущественного возмещения справедливо обратил внимание суд апелляционной инстанции1.
Однако противоречат изначальному подходу дальнейшие рассуждения Конституционного Суда, которые переносят определение суммы возмещения расходов реабилитированного в оценочную плоскость с апеллированием формулировками «рыночная стоимость», «квалификация адвоката» и т. п. Как следует из Определения КС РФ № 708-О и вслед за ним Постановления КС РФ № 41-П, «если судом будет установлено, что заявленная сумма понесенных расходов не обусловлена действительной стоимостью юридических услуг в пределах рыночных значений, существовавших на момент ее оказания, то он присуждает к возмещению лишь сумму, являвшуюся – с учетом всех обстоятельств дела, объема работы, квалификации субъектов оказания юридических услуг, а также правила о толковании сомнений в пользу реабилитированного – объективно необходимой и достаточной в данных конкретных условиях для оплаты собственно юридической помощи». Далее, явно отступая от базового тезиса о необходимости полного возмещения причиненного реабилитированному вреда, Конституционный Суд РФ легитимирует право участников судебного заседания просить суд о снижении возмещения, «если за услуги адвоката назначена плата в необычно высокой величине и ее явная чрезмерность доказана в сравнении с аналогичными случаями, а также если реабилитированный пользовался услугами сразу нескольких адвокатов и тем более адвокатских образований…».
Возможность наделения судов правомочием по оценке качества и стоимости работы адвоката на основе своего внутреннего убеждения противоречит следующим тезисам.
Во-первых, не стоит забывать о том, что речь идет о незаконном и необоснованном уголовном преследовании в отношении лица, что предопределяет вынужденность понесенных расходов под угрозой быть незаконно привлеченным к наиболее строгому виду юридической ответственности.
Во-вторых, адвокатская деятельность, несмотря на ее возмездность (по общему правилу), в силу закона не является предпринимательской, к ней априори не применим подход, ориентирующий правоприменителя на «среднюю рыночную стоимость» юридической помощи. Отношения доверителя с адвокатом носят фидуциарный характер, «в силу чего выбор адвоката объективно зачастую обусловлен не только лишь размером его гонорара, но и, прежде всего, его специализацией в конкретной области знаний, репутацией, прежними взаимоотношениями с доверителем»2. В этой связи в мире является общераспространенным подход, согласно которому не допускается ограничение сумм денег, которые обвиняемые в уголовных преступлениях могут платить своим адвокатам [6, с. 5].
В-третьих, наделение суда полномочием оценивать качество работы защитника несовместимо с состязательностью. Понятие квалифицированной юридической помощи следует определять не через оценку уровня знаний, навыков, компетенций адвоката. Квалифицированность определяется формализованным порядком наделения лица статусом адвоката и привлечения его к дисциплинарной ответственности, регулированием адвокатской деятельности корпоративными нормами, предусматривающими в том числе высокие этические стандарты последней [3, с. 6].
Таким образом, оценка избыточности понесенных реабилитированным расходов должна носить объективный характер и не должна подменять собой субъективную оценку качества работы адвоката и размер его вознаграждения. Игнорирование приведенных выше аргументов приводит к принятию неправосудных решений, ограничивает права реабилитированных и, как следствие, снижает доверие граждан к судебной власти. Так, например, незаконное уголовное преследование А. продолжалось в течение 5 лет 2 месяцев 16 дней и завершилось 18 сентября 2018 года отменой обвинительного приговора и полным прекращением правоотношений с подсудимым в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ. В течение этого времени защитник реабилитированной вела активную последовательную работу (уголовное дело рассматривалось по существу шестью составами городского суда, многократно по жалобам адвоката судом апелляционной инстанции областного суда и в порядке судебного контроля городским судом). Вместе с тем при полной документальной подтвер-жденности действительности расходов на юридическую помощь на сумму 4 000 000 руб. судом сумма имущественного возмещения в этой части была уменьшена до 1 000 000, а затем в апелляции увеличена до 1 700 000 руб. (без учета уровня инфляции)
по мотиву превышения разумных пределов стоимости услуг адвоката1.
Третий критерий, сформулированный Конституционным Судом РФ, – неопровергнутая добросовестность реабилитированного .
Исходя из пункта 3.4 Постановления КС РФ № 41-П, «размер присуждаемого реабилитированному возмещения не может быть ограничен (снижен) по мотивам недостаточной обоснованности или избыточности расходов на оплату услуг адвоката, если их достоверность доказана, а добросовестность реабилитированного не опровергнута». Распределение бремени доказывания размера возмещения путем установления опровержимой презумпции добросовестности реабилитированного обусловлено стремлением благоприятствования реабилитированному как слабой стороне в анализируемых правоотношениях. Такой порядок предполагает невозможность снижения судом размера возмещения как по инициативе суда, так и при неподтвержденности доказательствами позиций представителя казны или прокурора. Последний, к слову, «не выступает в этой процедуре в качестве процессуального оппонента (противника) реабилитированного, а обеспечивает доведение до суда необходимых для решения вопроса о возмещении такого вреда сведений»2.
Наконец, четвертый критерий, в целом не вызывающий возражений, – достоверность или документальная подтвержденность понесенных расходов. Согласно позиции Верховного Суда РФ «такие расходы могут быть подтверждены, в частности, соглашением об оказании юридической помощи, квитанциями об оплате, кассовыми чеками, иными документами, подтверждающими факт оплаты адвокату денежных средств»3.
Следует иметь в виду, что вопрос о возмещении имущественного вреда разрешается в интересах реабилитированного, а не его защитника. Зачастую суды, разрешающие вопросы, связанные с возмещением расходов на квалифицированную юридическую помощь, чрезмерно углубляются в проверку соблюдения адвокатами финансовой дисциплины, примеряя на себя роль органов адвокатского самоуправления, обладающих соответствующими полномочиями по привлечению адвокатов к дисциплинарной ответственности. Так, отменяя постановление о возмещении потерпевшему процессуальных издер- жек на помощь адвоката-представителя, суд апелляционной инстанции дал суду первой инстанции указание «путем заслушивания адвоката коллегии адвокатов, председателя и бухгалтера этой коллегии выяснить следующие обстоятельства:
– почему на вторых страницах соглашений от 7 сентября 2021 г., от 29 июня 2022 г. и от 26 декабря 2022 г. отсутствуют номера их регистрации в делах указанной коллегии адвокатов?
– почему квитанции о принятии адвокатом от доверителя денежных сумм в разные периоды времени содержат последовательные порядковые номера – 000016, 000017, 000018?
– почему все три Акта выполненных работ к соглашениям об оказании юридической помощи содержат одну дату?»4.
Отделяя зерна от плевел, следует констатировать, что в предмет доказывания расходов лица, обратившегося за квалифицированной юридической помощью, входят обстоятельства, подтверждающие факт передачи им денежных средств адвокату. Основным доказательством этого факта выступает квитанция. В этой связи справедливо суд апелляционной инстанции указал, что «непредоставление соглашения об оказании юридической помощи не является основанием для вывода о недействительности произведенных расходов в тех размерах, которые отражены в представленных квитанциях, именно данные документы необходимы для разрешения вопроса по существу требований»5.
В пользу упрощенного режима доказывания расходов на оплату помощи адвоката суды приводят также довод как об отсутствии в законе норм, обязывающих оправданное лицо нести ответственность за действия адвоката по регистрации соглашения и не-внесению адвокатом денежных средств в кассу адвокатского образования6, так и о невозможности возложения на реабилитированного обязанностей, которые изначально не входят в его компетенцию7.
Кроме того, следует обратить внимание на вопрос о взыскании расходов на адвокатскую помощь в случае, когда соглашение об оказании юридической помощи заключается не с обвиняемым, а с иным лицом в интересах обвиняемого как по его поручению, так и с его согласия (предварительного и последующего). Такая возможность прямо предусмотрена законом (ст. 49, 50 УПК РФ) и, как правило, имеет место в случаях, когда лицо задержано или заключено под стражу. Конституционным Судом РФ, который обращался к данному вопросу, отмечается, что закон «не препятствует в случае заключения близкими родственниками лица, задержанного или помещенного под стражу, соглашения об оказании ему юридической помощи возмещению как сумм, внесенных близкими родственниками в оплату оказываемых защитником услуг по поручению подозреваемого, обвиняемого из его личных средств, так и сумм, уплаченных в рамках такого соглашения близкими родственниками с согласия подозреваемого, обвиняемого, – с условием последующего их возмещения реабилитированным лицом»1. Таким образом, решение вопроса о возмещении уплаченных адвокату сумм в подобной ситуации напрямую будет зависеть от доказывания наличия договоренности о «последующем возмещении понесенных в интересах реабилитированного расходов иным лицом». Разумным является отражение этого юридически значимого обстоятельства в тексте соглашения об оказании юридической помощи. Установление наличия или отсутствия такой договоренности возможно и посредством заслушивания позиции реабилитированного и плательщика денежных средств в судебном заседании.
Таким образом, на сегодняшний день императивный законодательный запрет на уменьшение подлежащей взысканию в пользу реабилитированного суммы расходов на помощь адвоката не является абсолютным. При этом применяемый в России подход свободного определения в соглашении размера вознаграждения адвоката является распространенным в зарубежной практике. Государства – члены Европейского союза придерживаются положений Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского сообщества от 28 октября 1988 г.2 Согласно пункту 3.4 указанного документа «адвокат должен информировать своего клиента в полном объеме относительно вида назначаемых гонораров, и размер их должен быть справедлив и разумен в соответствии с законом и этическими правилами, которым подчиняется адвокат». Так, во Франции размер вознаграждения (гонорара) свободно определяется в соглашении об оплате. Если условия оплаты не оговорены соглашением, заключенным между адвокатом и его клиентом, то суммы вознаграждения определяются исходя из обычных правил, с учетом финансового положения клиента, сложности дела, расходов, представленных адвокатом к возмещению, а также в зависимости от его репутации и усердия. При первом же обращении клиента, а затем регулярно, адвокат информирует его о правилах расчета вознаграждения и о предполагаемой динамике роста его размера3.
В Испании общие требования гонорарной политики адвокатов сформулированы в разделе 14 Этического кодекса юридической профессии (Código Deontológico). Адвокаты в Испании также свободны в определении размера гонорара, при этом обязаны заранее проинформировать доверителя о размере гонорара и возможных предстоящих издержках, связанных с производством по делу4.
Особого внимания заслуживает немецкий опыт регулирования гонорарной политики адвокатов. В Германии государство на законодательном уровне закрепило базовые тарифы, которые должны использовать юристы в своей деятельности в разных видах судопроизводства. Различные критерии определения размера вознаграждения отражены в законе «О вознаграждении» (Rechtsanwaltsvergütungs-gesetz (RVG)) от 5 мая 2004 г.5 В уголовном судопроизводстве размер гонорара адвоката по соглашению должен определяться в границах между минимальной и максимальной суммами, представленными в таблице-приложении к закону. При этом ставки вознаграждения детализированы и зависят от множества факторов – вида деятельности, стадии процесса, вида государственного органа и уровня суда, рассматривающего дело. Например, размер гонора за один день рассмотрения уголовного дела в первой инстанции местного суда установлен в пределах от 44.00 до 319.00 евро6.
Представляется, что регламентация государством установленных сумм, предопределяющих допустимый размер вознаграждения (гонорара), имеет ряд преимуществ: минимальные ставки вознаграждения предотвращают демпинг в сфере оказания юридической помощи, способствуют формированию единообразной гонорарной практики; определение разумных максимальных ставок вознаграждения повышает доступность юридической помощи для населения, предотвращает возможность установления необоснованно завышенных сумм вознаграждения. Вместе с тем такой подход может быть успешно реализован, скорее, в государствах с небольшой территорией, со стабильной экономической ситуацией и отсутствием серьезного разрыва между бедным и богатым населением. Таким образом, для России оптимальным видится подход, в силу которого реабилитированному гарантируется полное возмещение понесенных расходов на квалифицированную юридическую помощь при условии наличия причинноследственной связи понесенных расходов с незаконным уголовным преследованием, их документальной подтвержденности и неопровергнутой добросовестности реабилитированного. Снижение же суммы взыскания на основании субъективного убеждения суда о высокой стоимости, неразумности или несоответствии средним рыночным ценам на юридическую помощь не основано на законе.
Возмещение сумм, выплаченных за оказание юридической помощи, в уголовных делах частного обвинения
Принципиально иное правовое регулирование предусмотрено по вопросу взыскания сумм, затраченных на юридическую помощь по уголовным делам частного обвинения. Процессуальная форма возмещения имущественного вреда, причиненного оправданному (или лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено по реабилитирующему основанию), поставлена в зависимость от того, чьи действия привели к незаконному и необоснованному уголовному преследованию – частного обвинителя или государства в лице органов предварительного расследования или суда.
В первом случае процессуальные издержки подлежат взысканию в порядке, установленном статьей 132 УПК РФ, во втором – в порядке реабилитации, установленном главой 18 УПК РФ.
Так, согласно части 9 статьи 132 УПК РФ «при оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения вправе взыскать процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было начато производство по данному уголовному делу». Возможность взыскания издержек с частного обвинителя была предусмотрена еще в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, что обосновывалось отсутствием факта незаконного уголовного преследования со стороны государства в случае, когда обвинительная деятельность изначально исходит от частного лица. Вместе с тем концептуально подход отличался от современного, поскольку несение бремени возмещения издержек возлагалось на частного обвинителя только в случае установленной недобросовестности частного обвинителя. Так, согласно статье 121 Устава «если обвинение было недобросовестное, то судья приговаривает обвинителя к уплате судебных издержек, а в случае просьбы обвиняемого – и к вознаграждению его за понесенные убытки». Сенат, как высшая судебная инстанция, разъяснял, что недобросовестным должно быть признано обвинение, подкрепляемое вымышленными доказательствами, а также обвинение в заведомо вымышленном преступлении или сопряженное с умышленным искажением фактов во вред обвиняемому [1, c. 137].
Современное правовое регулирование не предполагает постановку взыскания издержек выигравшей в уголовно-правовом споре стороны в зависимость от добросовестности частного обвинителя. Вместе с тем Конституционный Суд РФ, обращаясь к данному вопросу, указал на возможность оценки добросовестности частного обвинителя (обстоятельств конкретного уголовного преследования) при определении размера возмещения имущественного ущерба, поскольку «реализация потерпевшим его процессуальных прав по делам частного обвинения не является основанием для постановки его в равные правовые условия с государством в части возмещения вреда в полном объеме и независимо от наличия его вины»1. Конституционный Суд РФ указал на «возможность полного либо частичного возмещения частным обвинителем вреда в зависимости от фактических обстоятельств дела, свидетельствующих о добросовестном заблуждении или же, напротив, о злонамеренности, имевшей место в его действиях, а также с учетом требований разумной достаточности и справедливости»2. Приведенные правовые позиции восприняты судами общей юрисдикции3.
Так, суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, которым по уголовному делу частного обвинения оправданному было отказано в возмещении расходов на помощь адвоката «при отсутствии доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении М. правом на обращение к судье в порядке частного обвинения, об отсутствии каких-либо оснований для такого обращения, изложения ею ложных сведений с целью причинить истцу вред». Апелляционный суд принял решение о частичном возмещении оправданному расходов на юридические услуги с учетом требования разумности и справедливости, объема оказанных представителем услуг (представление интересов в четырех судебных заседаниях первой инстанции и в одном заседании суда апелляционной инстанции), фактических обстоятельств дела, длительности рассмотрения судом дела, его сложности1.
В тех же случаях, когда факт незаконного уголовного преследования обусловлен деятельностью государства, имущественный ущерб, причиненный лицу, возмещается за счет средств федерального бюджета. Такие ситуации возникают исходя из части 2.1 статьи 135 УПК РФ в случае, когда право на реабилитацию наступает у лица, уголовное дело в отношении которого было возбуждено в соответствии с частью 4 статьи 20 УПК РФ (то есть обвинительная деятельность осуществлялась должностными лицами правоохранительных органов), а также в случаях, когда нереабилитирующее решение суда по уголовному делу частного обвинения отменяется вышестоящей инстанцией с принятием реабилитирующего решения. Факт первоначального инициирования уголовного преследования частным обвинителем определяющего значения в данном случае не имеет, при определении размера возмещения применяется описанный в первой части исследования подход полного возмещения, а процессуальный порядок разрешения вопроса подчиняется главе 18 УПК РФ.
Отдельно законодатель закрепляет правило распределения бремени процессуальных издержек в случае примирения сторон. Согласно части 9 статьи 132 УПК РФ «при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон процессуальные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон». Такой подход отличается от общепринятого для прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, когда процессуальные издержки подлежат возмещению лицом, в отношении которого уголовное дело прекращается (ч. 1 ст. 132 УПК РФ). Таким образом, в случае прекращения уголовного дела на основании статьи 25 УПК РФ расходы, связанные с обращением за квалифицированной юридической помощью, подлежат взысканию с лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. Возможность же возложения бремени несения расходов на обоих лиц на основании части 9 статьи 132 УПК РФ обусловлена тем, что в уголовных делах частного обвинения зачастую имеет место ситуация подачи встречного заявления (например, в результате драки легкий вред здоровью причинен обоим ее участникам). Таким образом, принимая решение примириться и отказаться от продолжения уголовного преследования в частном порядке, сторонам конфликта следует достигнуть соглашения и по вопросу о материальных издержках на судебную тяжбу.
Взыскание с осужденных процессуальных издержек, связанных с участием в уголовном деле защитника по назначению дознавателя, следователя или суда
Лицо, оказавшееся в орбите уголовного судопроизводства, при выборе защитника вынуждено руководствоваться не только своими предпочтениями, основанными на опыте, репутации, специализации предпочитаемого защитника, но и финансовыми возможностями – позволяющими или не позволяющими оплатить заявленное адвокатом вознаграждение. Невозможность заключения с адвокатом соглашения в силу имущественной несостоятельности, однако, не должна приводить к блокированию права подозреваемого, обвиняемого воспользоваться квалифицированной юридической помощью с целью полноценной реализации права на защиту в состязательной процедуре уголовного судопроизводства. Именно поэтому государство возлагает на институт адвокатуры как самостоятельный и независимый институт гражданского общества осуществление публичной функции по участию в уголовном судопроизводстве адвокатов, назначаемых дознавателем, следователем, судом в случае невозможности приглашения защитника на возмездной основе.
Отдельные государства и международное сообщество в целом демонстрируют осознание значимости института предоставления государством квалифицированных представителей подозреваемым, обвиняемым для обеспечения справедливого уголовного судопроизводства. В силу пункта 3(d) статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах2 «каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника».
Международные и региональные организации формулируют критерии, рекомендуемые государствам в качестве ориентиров при решении вопроса обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи.
В 2012 году Организацией Объединенных Наций приняты «Принципы и руководящие положения ООН, касающиеся доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия»3. Согласно указанным документам критериями предоставления бесплатной юридической помощи могут выступать 1) нуждаемость обвиняемого; 2) интересы правосудия.
Аналогичным образом критерии предоставления обвиняемому адвоката за счет средств государства сформулированы в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод1 и развиты в практике Европейского Суда по правам человека, применяющего конвенциальные нормы: первый критерий – у обвиняемого недостаточно средств для того, чтобы оплатить юридическую помощь (при этом обвиняемый должен обосновать необходимость предоставления ему бесплатной юридической помощи), второй – участия адвоката требуют интересы правосудия [4, с. 64]. Несмотря на общепризнанную позицию мирового сообщества о необходимости предоставления неимущим слоям населения бесплатной юридической помощи, государства по-прежнему сталкиваются со сложностью воплощения этой гарантии в реальной действительности [7, с. 775].
Что касается российского законодательства, то в силу части 5 статьи 50 УПК РФ «в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета». Указанное положение закреплено в законе в качестве гарантии декларируемых Конституцией РФ прав на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ) и права обвиняемого на защиту, важной составляющей которого является возможность подозреваемого, обвиняемого в случаях, предусмотренных в законе, пользоваться помощью защитника бесплатно (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).
Обращает на себя внимание широкий подход российского законодателя к определению круга обвиняемых, которым государство обязуется обеспечивать квалифицированную юридическую помощь адвоката за счет средств федерального бюджета. Исходя из части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве является обязательным, если подозреваемый, обвиняемый от него не отказался. Презумпция обязательного участия защитника предопределяет обязанность государства обеспечить его участие без выяснения причин, по которым подозреваемый, обвиняемый не приглашает адвоката на возмездной основе. Таким образом, в России лицо, в отношении которого ведется производство по уголовному делу, не обязано предоставлять доказательства невозможности самостоятельной оплаты помощи защитника.
В свою очередь в результате обобщения практики Европейского Суда по правам человека, описанной организацией Justice Initiative, исследующей вопросы по обеспечению правовой помощи в государствах Европы и всего мира, для европейских государств выработаны «три фактора, которые следует учитывать при определении того, требуют ли “интересы правосудия” предоставления бесплатной юридической помощи: тяжесть преступления и суровость потенциального приговора; сложность дела; а также социальная и личная ситуация обвиняемого. Все эти факторы должны рассматриваться вместе, но любой из них может служить основанием для предоставления бесплатной юридической помощи»2.
В России весомую роль в формировании гарантий реального обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь сыграл Конституционный Суд РФ, последовательно формирующий императив о недопустимости его ограничения ни в связи с требованием о наличии у адвоката-защитника допуска к охраняемой законом тайне3, ни в связи с требованием о присвоении формального процессуального статуса подозреваемому, обвиняемому4, ни в связи с усмотрением должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело в вопросе о допуске защитника, предоставившего ордер5.
В результате последовательных преобразований в отечественном варианте само по себе отсутствие соглашения с адвокатом предопределяет право на помощь адвоката по назначению. Если рассуждать о моменте, с которого дознаватель, следователь могут обеспечить участие защитника по назначению, то следует отметить, что на протяжении продолжительного времени сохранялось неравенство возможностей лиц, в отношении которых осуществляется проверка сообщения о преступлении в рамках стадии возбуждения уголовного дела. Так, согласно пункту 6 части 3 статьи 49 УПК РФ «защитник участвует в уголовном деле с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ». Однако расходы, связанные с привлечением в процесс адвоката до официального принятия решения о возбуждении уголовного дела, законодательно отнесены к процессуальным издержкам (что позволяет и должностным лицам обеспечивать участие защитника по назначению на этапе проверки сообщения о преступлении) лишь с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 14 февраля 2024 г. № 9-ФЗ1. Таким образом, на современном этапе развития уголовного процесса участие защитника по назначению обеспечивается с начального этапа осуществления процессуальной деятельности и до стадии кассационного производства по уголовному делу.
При этом защитник по назначению привлекается для участия в заседании суда кассационной инстанции, но при этом не наделен правом подачи кассационной жалобы. В связи с этим заслуживает внимания вопрос о необходимости наделения защитников правом подачи жалоб на вступивший в законную силу приговор или иное решение суда, вступившее в законную силу. Эта проблема актуализировалась с момента существенного реформирования проверочных производств, а именно появления в процессе сплошной кассации – предполагающей возможность в ограниченный законом шестимесячный срок обращения с кассационной жалобой в кассационный суд общей юрисдикции с просьбой проверки законности состоявшихся решений. В сложившихся условиях осужденный, чье уголовное дело рассматривалось с участием защитника по назначению, не имеет доступа к квалифицированной юридической помощи для подачи кассационной жалобы, в отличие от осужденных, заключивших соглашение с адвокатом, и, что еще важнее, в отличие от прокурора, который не ограничен в возможностях подачи кассационного представления, в том числе по мотивам ухудшения положения осужденного, допускаемого законом в течение одного года с момента вступления приговора в законную силу.
Поиск оптимального разрешения затронутого вопроса не прост как в силу неизбежной существенной финансовой нагрузки на государственный бюджет в случае наделения защитников по назначению правом подачи кассационной жалобы, так и с учетом рисков существенного повышения количества немотивированных кассационных жалоб, которые могут привести к не всегда обоснованному повышению нагрузки на судебную систему.
Представляется, что существует необходимость поиска взвешенного подхода к разрешению сформулированной проблемы неравного доступа к кассационному обжалованию в зависимости от имущественного положения осужденных. В качестве критериев для финансирования государством обращения адвоката по назначению с жалобой в порядке сплошной кассации могут быть предложены: 1) волеизъявление осужденного при одновременном подтверждении им отсутствия финансовой возможности обращения к адвокату на возмездной основе; 2) очевидность и существенность обнаруженных защитником нарушений закона, допущенных в процессе разрешения уголовного дела; 3) наделение защитника по назначению, участвующего в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, правом подачи возражений на кассационное представление прокурора или жалобу потерпевшего, направленных на ухудшение положения осужденного. Последний из предлагаемых критериев видится наименее радикальным и беспрепятственно реализуемым. Следует отметить, что судебной практике известны примеры, когда сторона защиты добивалась признания необходимости оплаты из средств федерального бюджета труда адвоката по назначению, связанного с подачей возражений на кассационное представление. Верховный Суд РФ в Кассационном определении по делу № 5-УД22-134-К2 выразил несогласие с нижестоящим кассационным судом и указал на необходимость оплаты труда адвоката по подготовке мотивированных возражений на кассационное представление прокурора2.
Полагаем, что такая практика должна быть подкреплена нормативным регулированием. Что касается первых двух предложенных критериев – надо признать, что они в большей степени благоприятствуют осужденным, но неизбежно могут столкнуться с организационными сложностями. Более реалистичен первый из предложенных критериев – когда возможность получения субсидируемой государством квалифицированной юридической помощи по подаче кассационной жалобы может быть поставлена в зависимость от волеизъявления осужденного с одновременным возложением на него бремени доказывания имущественной несостоятельности. Наконец, наиболее сложным в определении выступает критерий, связанный с оценкой существенности допущенных нарушений в процессе разрешения уголовного дела, в силу известной сложности применения на практике любых оценочных категорий. В любом случае расширение объема предоставления в уголовном процессе помощи защитников по назначению будет способствовать укреплению состязательности и равенства сторон в судопроизводстве. В целом же следует отметить, что стандарт обеспечения подозреваемым, обвиняемым квалифицированной юридической помощи на раннем этапе уголовного преследования в России можно считать выдержанным.
Далее остановимся на содержательной части института возмещения издержек, связанных с участием в уголовном деле защитников по назначению. С одной стороны, государство незамедлительно обеспечивает каждому подозреваемому, обвиняемому возможность пользоваться квалифицированной помощью защитника. С другой же стороны, такая помощь является бесплатной лишь тот временной промежуток, пока уголовное дело не будет разрешено по существу, поскольку завершение производства предполагает и обязательное разрешение вопроса о взыскании процессуальных издержек.
На сегодняшний день издержки, связанные с участием в уголовном деле защитника по назначению, взыскиваются не только с осужденных, но и с лиц, в отношении которых уголовное дело (уголовное преследование) прекращается по нереабилитирующему основанию1.
Внесенные в закон изменения – свидетельство тенденции расширения возможностей по возложению на подозреваемого, обвиняемого бремени расходов на помощь адвоката. При этом нельзя не отметить, что такой подход не противоречит природе принятия нереабилитирующих решений в уголовном процессе, завершающих производство по делу без разрешения основного вопроса уголовного права – вопроса о виновности лица. Допустимость возложения на лицо, в отношении которого прекращается уголовное дело, бремени несения процессуальных издержек объясняется наличием в законе не знающей исключений процессуальной гарантии о получении согласия лица на прекращение дела. Получение такого согласия должно предвосхищаться разъяснением негативных последствий прекращения уголовного дела (уголовного преследования), включающих возможность заявления иска в рамках гражданского судопроизводства, конфискации вещественных доказательств и в том числе возмещения расходов на оплату помощи защитника и адвоката-представителя потерпевшего.
Вместе с тем правило о взыскании издержек с осужденного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, не является абсолютным. Следует остановиться на вопросе о том, насколько рационально и справедливо российский законодатель регулирует вопрос о возможности освобождения лица от уплаты процессуальных издержек.
Довольно обстоятельна сформировавшаяся практика стран – участниц Европейского союза по вопросу о пределах дальнейшего взыскания с осужденных затраченных государством расходов на обеспечение участия в деле адвоката. Согласно результатам исследования организации Justice Initiative «возможность того, что после завершения судебного процесса от обвиняемого могут потребовать возместить расходы на юридическую помощь, не является, в принципе, несовместимой с пунктом 3 статьи 6 Европейской конвенции по защите прав человека. Наоборот, государство может требовать от обвиняемого возмещения таких расходов после суда, если его (ее) экономическая ситуация улучшилась и он (она) может оплатить эти расходы. При этом требование о возмещении или оплате расходов на юридическую помощь может быть несовместимым со статьей 6, если сумма, требуемая к уплате заявителем, чрезмерна, условия возмещения расходов произвольны или не обоснованы или если не проводилась оценка финансового положения заявителя с целью убедиться, что его (ее) экономическая ситуация улучшилась, и он (она) имеет возможность оплатить расходы на юридическую помощь»2.
Исходя из анализа норм действующего российского законодательства освобождение лица от бремени расходов на адвоката допускается в императивном и дискреционном порядке.
В обязательном порядке лицо освобождается от возмещения издержек на помощь защитника в случаях: 1) если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению (ч. 4 ст. 132 УПК РФ); 2) имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы (ч. 6 ст. 132 УПК РФ); 3) смерти подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 24 УПК РФ (ч. 6 ст. 132 УПК РФ); 4) рассмотрения уголовных дел о применении принудительных мер медицинского характера в соответствии с положениями главы 51 УПК РФ; 5) рассмотрения жалобы на решение о выдаче лица в порядке, предусмотренном статьей 463 УПК РФ; 6) рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главами 40 и 40.1, статьей 226.9 УПК РФ, в том числе и при обжаловании вынесенного в таком порядке судебного решения в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.
В дискреционном порядке (когда должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, вправе, но не обязано принять то или иное решение) лицо освобождается от возмещения издержек на помощь защитника в случае, если взыскание таких издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного (ч. 6 ст. 132 УПК РФ).
Нельзя не отметить, что усмотрение в уголовном судопроизводстве означает не произвольное, а мотивированное принятие решения, когда право должностного лица при установлении соответствующих оснований трансформируется в обязанность. Такой подход предопределяет отсутствие тождества между субъективным правом физического лица и дискреционным полномочием должностного лица, а равно диспозитивным и дискреционным методом правового регулирования.
Как правило, процедуры, предполагающие разрешение спора физического или юридического лица с государством, обеспечиваются дополнительными правовыми гарантиями, направленными на компенсацию априори слабого положения стороны, противостоящей в такой процедуре государству. Однако анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды неохотно применяют нормы об освобождении лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу, от возмещения сумм, затраченных на оплату участия защитника по назначению, даже в тех ситуациях, когда основание для освобождения от взыскания процессуальных издержек сформулировано как императивное. Кроме того, отсутствие в законе норм, прямо закрепляющих обязанность разъяснения дознавателем, следователем, судом правил возмещения издержек на адвоката, а также оснований освобождения от их возмещения, ведет к неэффективному обеспечению имущественных прав лиц, в отношении которых ведется производство по уголовному делу. Представляется, что реальное обеспечение прав последних недостижимо в условиях неосведомленности о таких правах, усугубленной использованием в Законе (ч. 5 ст. 50 УПК РФ) вводящей в заблуждение формулировки о компенсации оплаты труда защитника «за счет средств федерального бюджета». Конституционный Суд РФ прямо и однозначно сформулировал правовую гарантию по данному вопросу: «вопрос о наличии оснований для освобождения лица от возмещения процессуальных издержек должен быть самостоятельным предметом судебного разбирательства, и осужденному должна быть предоставлена возможность довести до суда свою позицию по поводу суммы взыскиваемых издержек и своего имущественного положе-ния»1.
Несмотря на отсутствие в законе приведенной позиции Конституционного Суда РФ, судебной практике известны примеры, когда суд отменял приговор в части, разрешающей вопрос о взыскании с осужденного процессуальных издержек, в случае, когда «осужденному С. положения ст. 131 и 132 УПК РФ не разъяснялись, его имущественное положение и мнение о возможности взыскания процессуальных издержек с него, а также наличие или отсутствие оснований для освобождения осужденного от уплаты процессуальных издержек не выяснялось»2. Необес-печение возможности осужденному довести до суда свою позицию по вопросу о взыскании с него сумм процессуальных издержек признавалось существенным нарушением уголовно-процессуального закона и в иных случаях3.
Остановимся на наиболее востребованных и одновременно неоднозначно применяемых правоприменителем основаниях освобождения лиц от бремени несения расходов на помощь адвоката по назначению в уголовном судопроизводстве.
Первое основание – лицо освобождается от возмещения издержек на помощь защитника в случае, если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, и защитник участвовал в уголовном деле по назначению (ч. 4 ст. 132 УПК РФ). Наличие в законе данной нормы – свидетельство восприятия отечественным законодателем упомянутого выше подхода европейских государств, предписывающего обеспечивать участие защитника по назначению «в интересах правосудия».
Вместе с тем нередка практика игнорирования указанного законодательного предписания, что, как представляется, обусловлено стремлением государственных служащих минимизировать траты средств государственного бюджета. Зачастую для применения однозначно сформулированной нормы права осужденный вынужден обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного Суда РФ. Так, высшая судебная инстанция указала на то, что процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката, не подлежали взысканию с осужденной, поскольку она отказалась от защитника, в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 июня 2024 года № 53-УД24-14-К8 и в целом ряде других4.
Одновременно с этим при принятии решений в части взыскания издержек суды ориентируются на разъяснения Верховного Суда РФ1 о том, что: 1) отсутствие на момент решения данного вопроса у лица денежных средств или иного имущества само по себе не является достаточным условием признания его имущественно несостоятельным; 2) заявление подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного об отказе от помощи назначенного адвоката по причине своей имущественной несостоятельности нельзя рассматривать как отказ от защитника. В таких случаях согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника обязательно, а соответствующие процессуальные издержки могут быть взысканы в общем порядке. Видится, что приведенная позиция Верховного Суда РФ направлена на максимально узкое определение случаев освобождения осужденного от взыскания процессуальных издержек.
Не до конца ясна позиция Верховного Суда РФ о необходимости обязательного обеспечения участия защитника, несмотря на наличие заявленного отказа от помощи последнего в ситуации, когда мотив такого отказа – имущественная несостоятельность. Принудительное назначение защитника, усугубленное последующим взысканием издержек за его участие, не всегда удовлетворяет интересам обвиняемого. В этой связи актуальна позиция Конституционного Суда Российской Федерации, указавшего, что «по смыслу положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации возможен как отказ от услуг конкретного защитника, так и отказ от помощи любого защитника вообще. Отказ от помощи любого защитника имеет своим следствием не замену защитника, а осуществление своей защиты подозреваемым или обвиняемым самостоятельно. Предоставляя лицу возможность отказаться от защитника на любой стадии производства по делу, уголовно-процессуальный закон, таким образом, исключает возможность его принуждения к реализации своего субъективного права вопреки его воле»2.
Практике известны единичные примеры, когда, несмотря на отказ от защитника именно по мотиву имущественной несостоятельности, суды не соглашаются с необходимостью взыскания с осужденного издержек на адвоката по назначению. Так, осужденный заявил об отказе от защитника в суде апелляционной инстанции по мотиву имущественной несостоятельности, суд не принял такой отказ, обеспечил участие защитника и взыскал с осужденного в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 3 120 руб. Суд кассационной инстанции изменил постановление, исключил указание на взыскание в доход государства процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката. В обоснование своего решения суд сослался на приведенную позицию Конституционного Суда РФ, указал на то, что «ни в постановлении о назначении судебного заседания, ни при апелляционном рассмотрении судебного материала мотивы назначения защитника судом не приведены. ˂…˃ в силу положений ч. 4 ст. 7 УПК РФ суд обязан мотивировать свое решение о назначении защитника помимо воли осужденного»3. Процессуальная логика кассационного суда видится правильной: подход к вопросу об обеспечении участия защитника не должен быть формальным. Суду в подобных случаях следует подробно исследовать вопрос о желании и готовности подсудимого самостоятельно защищать свои интересы в процессе, изучить вопрос о материальном положении, трудоспособности, наличии иждивенцев у осужденного и с учетом всех обстоятельств по итогам заслушивания позиции осужденного принимать мотивированное решение. Представляется, что в том случае, когда материальное положение подсудимого вынуждает его отказываться от помощи защитника, а участие защитника обеспечивается судом в интересах правосудия, возмещение процессуальных издержек должно осуществляться государством.
В качестве второго императивного основания освобождения от взыскания процессуальных издержек Закон называет «имущественную несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы (ч. 6 ст. 132 УПК РФ)». Фактически имущественная несостоятельность лица в сложившейся судебной практике служит основанием для освобождения лица от бремени несения расходов лишь в одном случае – когда установлена документально подтвержденная невозможность осуществления обвиняемым трудовой деятельности.
Так, суды общей юрисдикции не устанавливали оснований для освобождения от возмещения расходов на оплату труда адвоката в случаях, когда: осужденный не имеет заболеваний, препятствующих трудовой деятельности; имеет группу инвалидности, не исключающую занятие трудом4.
Как видим, российский подход определяет возможность последующего взыскания с лица сумм, затраченных на обеспечение участия защитника по назначению на момент разрешения вопроса о возмещении процессуальных издержек в отсутствие какого-либо механизма, предполагающего возможность возвращения к данному вопросу в дальнейшем в зависимости от того, изменилось ли материальное положение лица, что диктует необходимость подробного и всестороннего анализа всех юридически значимых обстоятельств для принятия мотивированного решения.
Если анализировать действующее процессуальное законодательство на предмет наличия норм, определяющих отдельные категории участников , которым бы защитник по назначению предоставлялся полностью за счет средств федерального бюджета без дальнейшего взыскания с них расходов, то можно отметить, что такой перечень достаточно узок и включает лишь лиц, в отношении которых решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в соответствии с положениями главы 51 УПК РФ, и лиц, в отношении которых рассматриваются жалобы на решение о выдаче лица в порядке, предусмотренном статьей 463 УПК РФ, а также в случае смерти подозреваемого, обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
Законодатель не относит к категории указанных выше участников несовершеннолетних. Кроме того, согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 «по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки на законных представителей несовершеннолетних»1. На проблему усугубления положения подростков в связи с возложением на них издержек на правосудие, а также на не всегда обоснованное возложение этого бремени на членов семьи несовершеннолетнего правонарушителя обращают внимание и в зарубежной литературе [8, с. 1305; 9, c. 9]. Вместе с тем Конституционный Суд РФ не усмотрел неконституцион-ности в установленном российским процессуальным законодательством порядке, указав, что суд обязан установить «роль законного представителя в жизни обвиняемого и возможность взыскания процессуальных издержек за счет средств самого несовершеннолетнего, а также применить общие правила о взыскании процессуальных издержек в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы»2.
Следующее основание для освобождения осужденного от взыскания процессуальных издержек – рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главами 40 и 40.1, статьями 226.9 УПК РФ. Мотивы закрепления в законе обозначенного основания освобождения от бремени финансовых затрат на помощь защитника по назначению ясны – данная норма призвана в числе других «льгот» стимулировать обвиняемых к согласию на рассмотрение уголовного дела в сокращенном порядке в целях оптимизации правосудия. В силу закона указанный имущественный стимул сохраняет силу в том числе и при обжаловании вынесенного в особом порядке судебного решения в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.
Вместе с тем в силу пункта 5 (2) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 42: «указанные правила не применяются в тех случаях, когда по уголовному делу с ходатайством обвиняемого об особом порядке (глава 40 УПК РФ) или в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ), суд при наличии установленных законом оснований принял решение о проведении судебного разбирательства в общем порядке».
Приведенное разъяснение, как представляется, способно привести к злоупотреблению правом представителями стороны обвинения; ставит обвиняемых, согласившихся с предъявленным обвинением и сокращенной процедурой рассмотрения уголовного дела, в неопределенное положение. Справедливым видится подход, при котором освобождение от взыскания процессуальных издержек должно сохраняться в случаях, когда особый порядок судебного разбирательства прекращен по причинам, не зависящим от подсудимого. На сегодняшний же день переход от особого порядка судебного разбирательства к общему допускается в том числе и в связи с односторонним заявлением прокурора, которое в практике не всегда является мотивированным.
Наряду с группой проанализированных императивных оснований освобождения подозреваемого, обвиняемого от взыскания с него процессуальных издержек на помощь адвоката по назначению законодатель предусмотрел единственное дискреционное основание. Так, согласно части 6 статьи 132 УПК РФ «суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного». Наличие в законе данной нормы следует оценить положительно. С процессуальной точки зрения она предопределяет необходимость всестороннего исследования судом вопроса не только о материальном положении подсудимого, но и о составе его семьи, наличии иждивенцев, их материальном положении и роли участия в их содержании лица, в отношении которого решается вопрос о взыскании процессуальных издержек. Так, Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 20 июля 2023 г. № 49-УД23-21-А4 изменено постановление о взыскании с осужденного в доход федерального бюджета денежных средств в возмещение расходов за участие в судебном разбирательстве адвоката – исключено указание о таком взыскании, так как на иждивении осужденного находятся малолетние дети и несовершеннолетний ребенок, осужденный не трудоустроен; уплата процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении детей, находящихся на иждивении осужденного1.
Проблема, которая заслуживает особого внимания, – отсутствие в законе или актах судебного толкования перечня ситуаций, когда лицо должно подлежать освобождению от взыскания издержек на предоставленного государством адвоката, в случаях неразумности и (или) необоснованности расходов.
Поиск оптимального подхода к регулированию вопроса о взыскании с обвиняемых расходов на квалифицированную юридическую помощь, обеспечиваемую силами государства, обнажает две проблемы. Первая из них – необоснованное возложение на осужденного бремени несения расходов в случаях, когда такие расходы не являлись необходимыми или когда фактически квалифицированная юридическая помощь лицу оказана не была.
В частности, примером необоснованного возложения на осужденного обязанности оплаты расходов на участие адвоката по назначению в уголовном деле служит пример, где суд не дал оценки значимым обстоятельствам, в силу которых судебные заседания назначались на период нахождения И. на больничном, когда он не мог явиться, а следовательно, судебные заседания заведомо не могли состояться и должны были быть отложены. Суд кассационной инстанции, направляя уголовное дело на новое рассмотрение, указал, что «судом апелляционной инстанции не было дано надлежащей оценки указанным доводам апелляционных жалоб осужденного И. и его защитника адвоката А., в том числе обоснованности взыскания с И. процессуальных издержек за дни, когда его неявка не признавалась неуважительной, указанные выше нарушения закона выявлены и устранены не были, тогда как они являются существенными, повлиявшими на исходе дела»2.
Ситуаций, в которых обоснованность взыскания с обвиняемого процессуальных издержек на оплату труда адвоката по назначению вызывает сомнения, немало. К таковым, в частности, можно отнести: ознакомление защитника с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания суда апелляционной инстанции (в условиях отсутствия правомочия на подачу кассационной жалобы); откровенно растянутое во времени ознакомление защитника с материалами уголовного дела (один том в два дня или один том в день в многотомном уголовном деле); дублирование действий по ознакомлению с материалами уголовного дела, когда защиту по назначению в досудебных стадиях и в стадии судебного разбирательства осуществляют разные защитники (по-прежнему не во всех регионах обеспечено требование непрерывности защиты); повторное ознакомление вновь назначенного защитника с материалами уголовного дела после возвращения уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ или после отмены состоявшегося приговора и направления уголовного дела на повторное рассмотрение в связи с наличием нарушений, допущенных стороной обвинения, и т. д.
В защиту имущественных интересов лиц, которым фактически квалифицированная юридическая помощь не была оказана и, более того, действиями адвокатов-защитников было нарушено право обвиняемых на защиту или имело место оставление последних без защиты, выступил Верховный Суд РФ. Так, «назначенный осужденному адвокат М., выступая в прениях, указал, что с доводами своего подзащитного об оправдании его по ст. 158 УК РФ он не согласен и, ссылаясь на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, указал, что С. совершена именно кража телефона. Таким образом, позиция адвоката М. противоречила позиции и интересам защищаемого им лица, чем было нарушено гарантированное Конституцией Российской Федерации и уголовно-процессуальным законом право осужденного С. на защиту». В этой связи Определение судебной коллегии по уголовным делам Тверского областного суда от 29 декабря 2021 г. в части взыскания с С. процессуальных издержек в сумме 3860 руб. в связи с выплатой из федерального бюджета вознаграждения адвокату М. отменено, поскольку по смыслу закона (ст. 31, 132 УПК РФ) «правовым основанием для их взыскания являлось оказание осужденному квалифицированной юридической помощи в суде апелляционной инстанции, которая, как установлено Судебной коллегией, фактически ему оказана не бы-ла»3. Принятое Верховным Судом РФ решение абсолютно обоснованно, аналогичный подход должен применяться судами во всех случаях, когда адвокат-защитник действует вопреки воле и интересам подзащитного.
Представляется, что накопление и обобщение Верховным Судом РФ ситуаций, когда возникает необходимость освобождения обвиняемого от взыскания с него процессуальных издержек в силу их неразумности и (или) необоснованности, может способствовать более справедливому правоприменению.
Нерешенной остается и проблема неравенства процессуальных возможностей обвиняемых , чью защиту осуществляет адвокат по соглашению, по сравнению с обвиняемыми, защищаемыми адвокатами по назначению. В основе неразрешимости этого неравенства лежит в первую очередь финансовая составляющая вопроса.
Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 8 ст. 10) закрепляет строгое требование равных стандартов осуществления квалифицированной юридической помощи независимо от того, по назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда или за вознаграждение защитник осуществляет свои полномочия. В этой связи возникает два проблемных момента: первый связан с вопросом о качестве оказываемой адвокатами по назначению помощи, второй – с пределами процессуальных возможностей таких адвокатов по сравнению с возможностями адвоката по соглашению. Как справедливо отмечает И. Н. Чеботарева, адвокат-защитник, оказывающий юридическую помощь по назначению, «может использовать только те из них, которые не требуют финансовых затрат, поскольку несмотря на то, что перечень действий, которые могут быть предметом вознаграждения адвоката, не является исчерпывающим, оплачивается адвокату его труд, а не связанные с этим расходы» [7, с. 776]. Подозреваемый, обвиняемый не может рассчитывать на финансирование параллельного адвокатского расследования обстоятельств уголовного дела, которое в ряде случаев приводит к колоссальным результатам, в том числе к достижению одной из целей уголовного судопроизводства – предотвращению привлечения к уголовной ответственности невиновных [2, с. 49].
Отметим также, что интенсивность оказываемой подозреваемому, обвиняемому квалифицированной юридической помощи напрямую коррелирует с готовностью государства финансировать оплату труда адвокатов по назначению, превышающую пусть даже незначительно минимальный объем участия последнего в процессуальных действиях. Так, например, подозреваемый, обвиняемый, содержащийся под стражей, находится в крайне уязвимом положении и довольно часто испытывает дефицит общения с защитником. В этой связи заслуживает внимания практика, подтверждающая необходимость оплаты труда адвоката, выразившегося в посещении в следственном изоляторе своего подзащитного1. Следует согласиться с тем, что «посещение подзащитного в следственном изоляторе, составление ходатайств, запросов, жалоб на действия следователя, проведение опросов подтверждаются соответствующими документами, что является основанием для вынесения постановления об оплате выполненной работы»2. Зачастую особенности устройства территорий в России актуализируют и вопрос о компенсации транспортных расходов адвоката. В силу нераспространенности со стороны защитников по назначению подобных требований правоприменитель зачастую уклоняется от отнесения их к процессуальным издержкам.
С одной стороны, расходы государства на обеспечение участия в уголовном деле защитника по назначению в последующем по общему правилу взыскиваются с осужденного. С другой же стороны, предоставление доступа к помощи защитника в необходимом подозреваемому, обвиняемому объеме невозможно без уверенности адвоката в том, что его труд будет оплачен. В этой связи большую значимость приобретает правовая политика финансирования государством оплаты труда защитников по назначению.
Что же касается вопроса о возможности оценки подозреваемым, обвиняемым качества предоставляемой ему юридической помощи, то следует отметить, что подозреваемый, обвиняемый, чью защиту осуществляет адвокат по назначению, не обладает столь широкой свободой выбора конкретного защитника, как в случае привлечения последнего в процесс за вознаграждение (на основании соглашения). Иными словами, право на защитника по назначению не приравнивается к праву на выбор конкретного защитника по назначению, а простое субъективное недовольство оказанной юридической помощью не влечет обязанности должностного лица по назначению нового адвоката.
При этом лицу, в производстве которого находится уголовное дело, следует давать надлежащую оценку доводам подозреваемого, обвиняемого, заявляющего требование о замене адвоката по назначению. Очевидно, что обвиняемый не может быть лишен возможности реагировать на откровенную некомпетентность своего защитника, поскольку зачастую от действий адвоката зависит жизнь и свобода преследуемого лица. Яркий пример чудовищных последствий бездействия адвоката, осуществляющего защиту, приводят Нил У. Сухатме и Джей Дженкис [6, с. 777]. Приговоренные к смертной казни в Техасе в 2004 году Джонни Рэй Джонсон и Кит Стивен Тур-монд были казнены, поскольку предоставленный им адвокат Джером Годинич в обоих случаях пропустил процессуальные сроки для подачи необходимых жалоб и петиций.
Взыскание процессуальных издержек потерпевшего на оплату помощи представителя
Вопросы, связанные с возмещением потерпевшему финансовых затрат на оплату помощи адвоката, участвующего в уголовном процессе в качестве его представителя, нормативно урегулированы в главе 17 УПК РФ. Следует отметить, что суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, были нормативно отнесены к процессуальным издержкам лишь в 2013 году с принятием поправок в УПК РФ. На правовую природу возмещения расходов на представителя обращает внимание и Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 13 октября 2020 г. № 231. В силу пункта 11 указанного Постановления «расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, не относятся к предмету гражданского иска, а вопросы, связанные с их возмещением, разрешаются в соответствии с положениями статьи 131 УПК РФ о процессуальных издержках». Следует отметить, что суды не всегда правильно определяют процессуальный режим решения вопроса о возмещении процессуальных издержек на адвоката-представителя, ошибочно определяя в качестве последнего исковое производство2.
Процедура возмещения процессуальных издержек, специально предусмотренная главой 17 УПК РФ, демонстрирует уникальный для процессуального права подход, в силу которого «только уголовный процесс предусматривает “двойной” механизм, связанный с их компенсацией: выплачены (т. е. компенсированы государством) суммы в размере издержек лицам, которые их понесли, могут быть по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда, а взысканы (т. е. возложены на осужденного или лицо, уголовное преследование которого прекращено по нереабилитирующим основаниям) – только по решению суда» [5, с. 112].
Таким образом, затраченные потерпевшим денежные средства на привлечение представителя выплачиваются по постановлению либо определению должностного лица в порядке, определенном статьей 132 УПК РФ. Взыскание процессуальных издер- жек напрямую с участников судебного разбирательства, а не из средств федерального бюджета нередко встречается в судебной практике и признается вышестоящими судами существенным нарушением закона, повлиявшим на исход дела3. Отнесение затрат потерпевшего на оплату юридической помощи адвоката к процессуальным издержкам, безусловно, является важной гарантией скорого и полноценного возмещения потерпевшему связанных с уголовным судопроизводством расходов. При таком подходе государство принимает на себя риск недополучения денежных сумм в случае невозможности исполнения обязательства по их уплате должником в силу отсутствия у последнего финансовой возможности или по иным причинам.
Крайне важен вопрос об определении размера сумм, подлежащих возмещению. В данном случае подход полного возмещения имущественного ущерба по аналогии с тем, как это установлено для реабилитированных, по понятным причинам неприменим. Потерпевший является стороной в уголовном процессе, но вместе с тем, в силу публичности уголовного судопроизводства, государство берет на себя обязанность в каждом случае совершения преступления прилагать все усилия для защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. В том же случае, когда потерпевший реализует законное право по приглашению адвоката в качестве представителя, понесенные им расходы подлежат возмещению в сумме, отвечающей требованиям необходимости и оправданности4.
Как было отмечено выше, в соответствии с частью 3 статьи 131 УПК РФ издержки потерпевшего на оплату помощи адвоката выплачиваются, в том числе по постановлению дознавателя, следователя, прокурора. Вместе с тем в течение долгих лет оставалась неразрешенной проблема определения размера подлежащих возмещению процессуальных издержек в досудебном производстве. Указанный вопрос разрешался в условиях, во-первых, отсутствия надлежащего правового регулирования критериев определения такого размера, во-вторых, отсутствия состязательной судебной процедуры, которая обычно должна быть гарантирована в случаях решения (в том числе в досудебном производстве) вопросов, связанных с ограничением конституционных прав граждан (в данном случае права собственности обви- няемого, с которого указанные издержки взыскиваются по общему правилу). Указанная проблема стала предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. В качестве небольшого исторического экскурса отметим, что согласно части 4 статьи 131 УПК РФ порядок и размеры возмещения процессуальных издержек должны быть установлены Правительством Российской Федерации. Во исполнение указанного предписания Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 утверждено соответствующее Положение1 (далее – Положение о возмещении процессуальных издержек).
Однако вопрос об определении размера сумм, подлежащих возмещению потерпевшему в связи с его обращением за юридической помощью к представителю, указанным Положением о возмещении процессуальных издержек долгое время урегулирован не был. Такой пробел в правовом регулировании позволял в ряде случаев правоприменителю при определении сумм, подлежащих возмещению потерпевшему, прийти к выводу о возможности применения по аналогии правил определения размеров вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда. На недопустимость такого подхода справедливо обратил внимание Конституционный Суд РФ в Постановлении от 13 мая 2021 г. № 18-П2 (далее – Постановление от 13 мая 2021 г. № 18-П).
Несудебный характер решения вопроса о возмещении процессуальных издержек в досудебном производстве, возможный конфликт интересов потерпевшего и следователя и отсутствие четких критериев определения размера возмещения, ведущие к возможности произвольного принятия решения, – вот те упущения в проверяемых на соответствие Конституции РФ нормах, что должны были подлежать реформированию.
Правовые позиции, нашедшие отражение в Постановлении от 13 мая 2021 г. № 18-П, имеют крайне важное значение для обеспечения прав потерпевших от преступлений.
Так, Конституционный Суд РФ указал, что «при определении размеров возмещения надо исходить из того, что возмещению подлежат в полном объеме все необходимые и оправданные расходы на выплату вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до формального получения статуса потерпевшего), которые должны быть подтверждены документами, в том числе расходы, связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, поскольку оно в дальнейшем было возбуждено, и с обжалованием прекращения уголовного дела, поскольку решение о том было отменено». Более того, возмещение должно производиться с учетом уровня инфляции. Важно и указание на то, что вопрос о необходимости, оправданности и размере расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю, если потерпевший обжаловал в суд соответствующее решение, принятое следователем (дознавателем, прокурором), по настоянию Конституционного Суда РФ должен разрешаться непосредственно судом.
Во исполнение указанного Постановления в УПК РФ и Постановление Правительства № 1240 были внесены соответствующие изменения. В частности, в статью 125.1 введены части 5 и 6, в соответствии с которыми при рассмотрении жалобы на постановление дознавателя, следователя или прокурора, которым определены размеры сумм, подлежащих выплате потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения его представителю, судья проверяет законность и обоснованность принятого решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, необходимость и оправданность расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю. По результатам рассмотрения такой жалобы судья вправе вынести постановление о признании незаконным постановления дознавателя, следователя, прокурора и определении размеров сумм, подлежащих выплате потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения его представителю, с учетом уровня инфляции, и их взыскании (возмещении) в соответствии со статьей 132 УПК РФ3. Положение о возмещении процессуальных издержек было дополнено пунктом 22(3), предусмотревшим ставки расчета расходов потерпевшего на юридическую помощь его представителя, аналогичные размерам выплат защитникам по назначению.
Следует отметить, что судебная практика пошла по пути возмещения процессуальных издержек потерпевшего, понесенных им в досудебном производстве, согласно ставкам, установленным Постановлением Правительства, независимо от того, завершается производство по уголовному делу на стадии предварительного расследования или в судебных стадиях. Так, Апелляционным постановлением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 сентября 2023 г. отменено Постановление суда первой инстанции, которым суд (в чьем производстве планомерно оказалось уголовное дело после досудебного производства) самостоятельно разрешил вопрос о возмещении процессуальных издержек потерпевшего, понесенных на стадии предварительного расследования. В обоснование принятого решения проверочной инстанцией отмечено, что «суд не наделен полномочиями по рассмотрению и разрешению вместо следователя заявления потерпевшего в части возмещения его расходов на выплату вознаграждения представителю за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия. Суд лишь уполномочен рассмотреть в соответствии с частью 4 статьи 125.1 УПК РФ жалобу потерпевшего на постановление следователя, вынесенное по результатам рассмотрения его заявле-ния»1. Вместе с тем представляется контрпродуктивным и не отвечающим интересам потерпевшего разрешение вопроса о возмещении процессуальных издержек дознавателем, следователем (по фиксированным ставкам) в тех случаях, когда уголовное дело поступит в суд, который сможет обеспечить состязательную процедуру разрешения вопроса о возмещении всех необходимых и оправданных расходов с учетом их стоимости, определенной в соглашении. Видится правильным разделение двух процессуальных ситуаций. Первая: в случае завершения производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования вопрос о возмещении процессуальных издержек разрешает своим постановлением дознаватель, следователь, прокурор, а процессуальной гарантией служит последующий судебный контроль с возможностью самостоятельного принятия судом решения о подлежащей возмещению сумме (ст. 125.1 УПК РФ). И вторая: когда в случае передачи уголовного дела в суд вопрос о процессуальных издержках потерпевшего, понесенных на всех предшествующих стадиях процесса, решается непосредственно в итоговом судебном решении.
Таким образом, в результате всех преобразований конечной точкой долгого пути по урегулированию вопроса о возмещении потерпевшему процессуальных издержек стала конструкция, при которой, с одной стороны, расходы потерпевшего на оплату помощи представителя являются процессуальными издержками и подлежат возмещению из средств федерального бюджета с последующим решением вопроса о взыскании этих процессуальных издержек с осужденных в доход государства, с другой стороны – порядок определения размера подлежащих возмещению денежных сумм на основе ставок, предусмотренных для защитников по назначению, вряд ли может быть оценен как адекватный (как по причине низкого размера этих ставок, так и по причине объективно невысокой частоты участия потерпевшего, а значит, и его представителя в производстве следственных и иных процессуальных действий, что в совокупности в большинстве уголовных дел предопределяет символический размер подлежащей взысканию суммы).
При описанном правовом регулировании в досудебном производстве потерпевший лишен права на возмещение разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов на помощь представителя. Насколько эффективной правовой гарантией станет последующий судебный контроль, обеспечивающий самостоятельное разрешение судом вопроса об определении сумм процессуальных издержек в случае реализации права на обжалование постановления дознавателя, следователя в установленном статьей 125.1 УПК РФ порядке, покажет время. Представляется, что реальное соблюдение прав потерпевшего, понесшего расходы в досудебном производстве, в тех случаях, когда производство завершается без перехода уголовного процесса в судебные стадии, могла обеспечить процедура решения вопроса о возмещении процессуальных издержек потерпевшего в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ.
Особо следует отметить, что вопрос о возмещении убытков, возникших в связи с обращением за юридической помощью на стадии возбуждения уголовного дела (в случае обжалования незаконного отказа в принятии сообщения о преступлении, затягивания сроков проверки такого сообщения, незаконного отказа в возбуждении уголовного дела), в ряде случаев разрешается в порядке гражданского судопроизводства (ст. 15, 1069 ГК РФ). В подобных ситуациях суды обращают внимание на необходимость выяснения вопроса о том, «было ли в дальнейшем возбуждено уголовное дело по заявлению истца»2. Указанное обстоятельство имеет юридическое значение в связи с тем, что в случае дальнейшего возбуждения уголовного дела расходы на оплату помощи представителя (в том числе связанные с обжалованием незаконных действий и решений должностных лиц на этапе проверки сообщения о преступлении) взыскиваются по постановлению дознавателя, следователя, прокурора в порядке, предусмотренном статьей 131 УПК РФ. На необходимость признания понесенных на стадии возбуждения уголовного дела расходов процессуальными издержками указывают и авторы принятых поправок в текст уголовно-процессуального закона1. Исходя из содержания Пояснительной записки к законопроекту определение процессуальных издержек как связанных с «уголовным судопроизводством», а не «производством по уголовному делу» (старая редакция) позволяет устранить неопределенность при решении вопроса об отнесении произведенных на этапе проверки сообщения о преступлении расходов к процессуальным из-держкам2.
Что касается судебных стадий, то определение подлежащих возмещению процессуальных издержек потерпевшего на помощь представителя напрямую зависит от доказывания их необходимости, оправданности, документальной подтвержденности.
Разрешая вопрос о пределах возмещения расходов на помощь представителя, суды обращают внимание: на сложность рассматриваемого дела, количество судебных заседаний, объем проделанной представителем работы, взаимосвязь выплат с конкретным делом3; сложность дела с учетом признания осужденным вины4; соответствие существующим расценкам, экономической ситуации, материальное положение осужденного5; данные, свидетельствующие о длительности расследования уголовного дела, не обусловленной его сложностью, о незаконных и необоснованных решениях об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела, а также о немотивированных отказах в удовлетворении ходатайств потерпевшего и его пред-ставителя6.
В качестве процессуальных гарантий следует обратить внимание на то, что принятие решения о взыскании произведенных выплат (процессуальных издержек) с осужденного либо лица, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, возможно только в судебном заседании. При этом указанным лицам предоставляется возможность довести до сведения суда свою позицию относительно суммы взыскиваемых издержек и своего имущественного положения (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 42 (ред. от 15.12.2022) «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам»).
Подводя черту под изложенными рассуждениями, следует заключить, что вопрос о возмещении участникам процесса издержек, связанных с обращением за помощью к адвокату, является непростым, что ведет к частым ошибкам и разночтениям в правоприменении. Процессуальный порядок и пределы возмещения зависят от множества факторов – процессуального статуса, стадии процесса, оснований возмещения. Нельзя не заметить, что серьезные шаги к реформированию затронутого в статье института уже сделаны, однако дальнейшее повышение уровня гарантий обеспечения имущественных прав участников уголовного процесса по-прежнему на повестке науки и практики уголовного судопроизводства.
Выводы
-
1. Надлежащее правовое регулирование вопроса о возмещении и взыскании процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве выступает важнейшей гарантией обеспечения конституционного права на квалифицированную юридическую помощь.
-
2. Потребность решения вопроса о возмещении процессуальных издержек возникает у реабилитированного, а также потерпевшего, обратившегося за юридической помощью к адвокату. В случае обеспечения участия защитника по назначению органа предварительного расследования или суда особое значение приобретает определение пределов взыскания с осужденного или лица, в отношении которого уголовное дело (уголовное преследование) прекращено, процессуальных издержек. Адресат получения квалифицированной юридической помощи, вид производства, стадия процесса и основание требования оказывают существенное влияние на пределы и процессуальный порядок возмещения и взыскания процессуальных издержек на помощь адвоката.
-
3. В качестве критериев возмещения реабилитированному расходов на помощь адвоката следует применять: 1) наличие причинно-следственной связи понесенных расходов с защитой от незаконного уголовного преследования, 2) действительность расходов – их документальную подтвержденность и 3) добросовестность реабилитированного, которая презюмируется, но может быть опровергнута (опровержимая презумпция добросовестности реабилитированного). Субъективные критерии оценки качества и стоимости работы адвоката в целях снижения размера возмещения не основаны на законе. Процессуальный режим восстановления прав (в том числе имущественных) реабилитированного обеспечен
-
4. Решение вопроса о взыскании процессуальных издержек реабилитированного на квалифицированную юридическую помощь в уголовных делах частного обвинения обладает существенной спецификой. Процессуальная форма возмещения имущественного вреда, причиненного оправданному (или лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено по реабилитирующему основанию), поставлена в зависимость от того, чьи действия привели к незаконному и необоснованному уголовному преследованию – частного обвинителя или государства в лице органов предварительного расследования или суда. В первом случае процессуальные издержки подлежат взысканию в порядке, установленном статьей 132 УПК РФ, во втором – в порядке реабилитации, установленном главой 18 УПК РФ. При этом добросовестность частного обвинителя подлежит учету при определении размера возмещения.
-
5. Важную роль в обеспечении конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи играет возможность подозреваемого, обвиняемого прибегнуть к помощи адвоката по назначению. Расходы на оплату труда защитника по назначению возмещаются из средств федерального бюджета, но в дальнейшем могут быть взысканы с осужденного, что обусловливает потребность в эффективной процедуре оценки обоснованности возложения финансового бремени на обвиняемого. Закрепленные в законе основания освобождения лица от взыскания с него процессуальных издержек зачастую игнорируются судами, на что указывают результаты изучения судебной практики.
-
6. Необходимо совершенствование процессуального порядка возмещения процессуальных издержек потерпевшего на помощь адвоката, понесенных в досудебном производстве: закрепление в законе возможности прямого обращения в суд в целях
различными гарантиями, поскольку понесенные расходы являются вынужденными – обусловлены неправомерным и (или) необоснованным уголовным преследованием. К числу таких гарантий, наряду с правилом о полном возмещении понесенных расходов, относится альтернативная подсудность рассмотрения вопроса о восстановлении нарушенных прав и упрощенный режим доказывания расходов на оплату помощи адвоката.
Наряду с совершенствованием применения отдельных перечисленных в законе оснований освобождения обвиняемого от взыскания с него процессуальных издержек на помощь адвоката по назначению требует решения проблема отсутствия в законе и актах судебного толкования перечня случаев, когда лицо должно освобождаться от финансового бремени расходов на помощь адвоката в силу неразумности или необоснованности таких расходов (неоказания защитником квалифицированной юридической помощи, повторного рассмотрения уголовного дела по причине нарушений, допущенных стороной обвинения и т. д.).
обеспечения взыскания необходимых и оправданных расходов. Современное регулирование указанного вопроса приводит к неравным возможностям по возмещению затрат на юридическую помощь потерпевших в зависимости от стадии уголовного процесса. Так, в судебных стадиях потерпевший вправе рассчитывать на возмещение всех необходимых и оправданных расходов на обращение за помощью к адвокату. В досудебном же производстве сумма расходов определяется по минимальным фиксированным ставкам, определенным Постановлением Правительства РФ. Закрепленная в статье 125.1 УПК РФ гарантия оспаривания размера возмещения в процедуре последующего судебного контроля не является совершенной, усложняет доступ к судебному разрешению данного вопроса. Эффективный порядок возмещения потерпевшему расходов на помощь адвоката может зависеть от движения уголовного дела по стадиям. В случае завершения процесса в досудебном производстве возможность прямого обращения к суду с вопросом об определении пределов возмещения расходов может быть обеспечена путем обращения в суд в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ. В случае же перехода к судебным стадиям вопрос определения подлежащей возмещению суммы расходов потерпевшего на адвоката, понесенных как в досудебном, так и в судебном производстве, может раскрываться судом в итоговом решении по уголовному делу.
Список литературы Порядок и пределы возмещения сумм, затраченных на обращение за квалифицированной юридической помощью в уголовном процессе
- Зеленин С. Р. Судебные издержки и их место в уголовном судопроизводстве по Уставу 1864 года // Журнал российского права. 2021. Т. 25, №. 4. С. 129- 143. DOI: 10.12737/jrl.2021.051 EDN: LKMJKT
- Колоколов Н. А. Оправдательные приговоры по делам об убийстве. Достижение защиты и брак в работе обвинения // Уголовный процесс. 2024. № 5(233). С. 46-52. EDN: BLJLRL
- Толчеев М. Н. О конституционно-правовом смысле понятия "квалифицированная" юридическая помощь // Адвокатская практика. 2023. № 1. С. 2-7. DOI: 10.18572/1999-4826-2023-1-2-7 EDN: XKBTXZ
- Чеботарева И. Н. Защита по назначению: правовые позиции Европейского суда по правам человека и российская практика // Адвокатская практика. 2018. № 4. С. 59-64. EDN: XUNKRF
- Шарипова А. Р. Уголовно-процессуальные издержки и судебные расходы в гражданском, арбитражном и административном процессах: применимые аналогии // Журнал российского права. 2022. Т. 26, №. 2. С. 106-120. DOI: 10.12737/jrl.2022.020 EDN: YIHZHN
- Chin G., Wells S. Can a Reasonable Doubt Have an Unreasonable Price? Limitations on Attorneys' Fees in Criminal Cases //Boston College Law Review. 1999. Vol. 41. Issue 1. 70 p.
- Sukhatme U., Jenkins J. Pay to Play? Campaign Finance and the Incentive Gap in the Sixth Amendment's Right to Counsel // Duke Law Journal. 2021. Vol. 70. Pp. 775-845.
- Shapiro L. R. The crippling costs of the juvenile justice system: A legal and policy argument for eliminating fines and fees for youth offenders // Emory Law Journal. 2020. Vol. 69. Issue 6. Pp. 1305-1349.
- Uppal A. The high cost of "justice": A snapshot of juvenile court fines and fees in Michigan National Center for Youth Law. 2020.13 p.