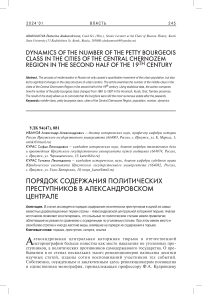Порядок содержания политических преступников в Александровском централе
Автор: Иванов А.А., Курас С.Л., Курас Т.Л.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется порядок содержания политических преступников в одной из самых известных дореволюционных тюрем страны - Александровской центральной каторжной тюрьме. Анализ источников позволяет констатировать, что ссыльные по политическим статьям имели привилегии, облегчавшие их режим по сравнению с осужденными по уголовным статьям. При этом имели место и свои более строгие и иногда жесткие меры, влиявшие на порядок их содержания в тюрьме.
Тюрьма, преступник, каторга, ссылка
Короткий адрес: https://sciup.org/170202335
IDR: 170202335 | УДК: 94(47), | DOI: 10.31171/vlast.v32i1.9979
Текст научной статьи Порядок содержания политических преступников в Александровском централе
А лександровская центральная каторжная тюрьма в отечественной историографии больше известна как место наказания не уголовных преступников, а политических противников самодержавного государства. О пребывании в ее стенах нескольких тысяч революционеров написаны десятки научных статей, изданы сотни воспоминаний участников тех событий. Собственно, осужденным и заключенным здесь революционерам посвящена и единственная монография, принадлежащая профессору Ф.А. Кудрявцеву
[Кудрявцев 1936]. Такое повышенное внимание к «политикам» объясняется, с одной стороны, интересами советской идеологии, поощрявшей изучение истории пребывания «в заточении» десятков «видных ленинцев», «несгибаемых борцов» и «коноводов революции», «в тяжелейших условиях сурового каторжного режима сохранявших верность делу освобождения народа», с другой – известной закрытостью изучения уголовной преступности в царской России в эпоху СССР, когда исследованием истории пенитенциарной системы империи занимался узкий круг отечественных правоведов и тюрьмоведов [Мулукаев 1964]. Однако, несмотря на кажущуюся изученность истории политической каторги в Александровской центральной тюрьме, есть в этой теме и масса неисследованных сюжетов и целых страниц.
В Александровской центральной каторжной и пересыльной тюрьмах содержались политические ссыльные трех категорий: ссыльнокаторжные, отбывавшие здесь срочное наказание; пересылаемые ссыльнопоселенцы, назначенные судом в пределы Иркутской губернии, в Якутскую и Забайкальскую области, а также высылаемые в административном порядке в Восточную Сибирь сроком от 1 года до 10 лет. Если для каторжан пребывание в централе было постоянным в течение определенного судом срока, то для поселенцев и административных жизнь в «пересылке» была делом временным, занимавшим несколько месяцев. Если первые содержались преимущественно в главном кирпичном корпусе тюремного замка, то вторые и третьи размещались в деревянных бараках, практически не имевших отдельных камер.
Все категории ссыльных «политиков» пользовались в тюрьме рядом привилегий, которые предоставлялись им законом или были отвоеваны у служителей тюремного ведомства в результате многолетней и упорной борьбы. «Послабления» режима начинались уже в период этапирования. Такие ссыльные следовали по Московско-Сибирскому тракту преимущественно отдельно от уголовных, не пешком, а на подводах, на крестьянских же телегах им разрешалось везти свои вещи. Вес принадлежащего «политику» багажа был больше, чем у уголовного, но не должен был превышать 30 фунтов для высылаемых в Сибирь по судебным приговорам и 5 пудов для отправляемых в административном порядке. Политические арестанты могли везти с собой даже подушки, однако их размер не мог «превышать 10 вершков по длине и ширине» (44,5 см)1.
В 1890-е гг. при движении по железной дороге при наличии возможности политические ссыльные помещались в обособленной части железнодорожного вагона, а при ночлеге на этапе имели отдельное помещение для себя и членов своих семей. В пути они могли также улучшать свою пищу, расходуя на это собственные денежные средства. С разрешения начальника Главного тюремного управления таким ссыльным еще в дороге по их просьбе могли даже предоставляться свидания с ближайшими родственниками. Инструкция гласила, что такие свидания «могут быть даваемы, однако, не иначе как в местах более продолжительных остановок партий и под личным наблюдением Начальника партии, или особо назначенных им наиболее благонадежных конвоиров»2.
Согласно Правилам о порядке содержания в тюрьмах гражданского ведомства политических арестантов, утвержденным 16 ноября 1904 г. циркуляром министра юстиции статс-секретаря Муравьева, политические ссыльные, в т.ч. и в Александровском централе, состояли в прямом и полном подчинении смо- трителя и действующих под его руководством чинов тюремной администрации. При этом, согласно статье второй, общее руководство распоряжениями по содержанию политических арестантов в местах заключения гражданского ведомства принадлежало местному губернатору. Смотрителю же вменялось в обязанность своевременно предупреждать всякие попытки к нарушениям тюремного порядка и наблюдать, чтобы тюремный священник, врач и чины местной тюремной администрации посещали, по возможности часто, политических арестантов, содержащихся в одиночном заключении1.
Статья девятая циркуляра четко обозначила и роль жандармского ведомства в наблюдении за политическими арестантами. Жандармские унтер-офицеры могли назначаться для надзора за политическими арестантами «лишь при недостатке тюремных надзирателей и не иначе, как с разрешения губернатора», который о каждом отдельном случае уведомлял Главное тюремное управление. Командированные с этой целью жандармские унтер-офицеры пользовались по отношению к арестантам правами тюремных надзирателей и состояли в ведении и подчинении смотрителя тюрьмы. При этом обыски у политических арестантов в занимаемых ими камерах могли производиться в присутствии начальника места заключения или одного из его помощников.
Политические каторжане, ссыльнопоселенцы и административно ссыльные имели право носить собственную одежду, белье, обувь и пользоваться своими постельными принадлежностями. При этом в личном распоряжении политического арестанта мог находиться лишь один комплект собственной одежды, белья, обуви и постели, прочие вещи должны были храниться в тюремном цейхгаузе и выдаваться по мере надобности. Статья 20 разрешала «политикам», принадлежавшим к привилегированным сословиям, иметь «особую пищу» за счет хранящихся в тюремной конторе собственных их средств. В случае неимения последних им отпускались кормовые деньги из казны. Независимо от получения особой пищи политические арестанты могли в определенные дни, но не более одного раза в неделю, приобретать за счет хранящихся в тюремной конторе собственных денег съестные припасы, не требовавшие особых приспособлений для хранения, а также предметы, дозволенные в тюрьме (чайники, ложки, мыло, гребенки, щетки, бумага и т.п.).
Таким образом, мы видим, что закон предусматривал весьма значительные льготы для политических. Более того, циркуляр 1904 г. даже разрешал им «курение табаку», правда, с утверждения губернатора и только тем арестантам, «в состоянии здоровья которых, по заключению тюремного врача, должно вредно отражаться прекращение курения».
Статьи 26 и 27 крайне важны для нашего исследования, т.к. определяли в значительной мере весь режим содержания. Первая гласила: «На хозяйственные работы по тюрьме политические арестанты не назначаются, но они обязаны сами поддерживать чистоту и порядок в занимаемых ими камерах и убирать постель». Вторая: «Политическим арестантам предоставляется, по желанию и с разрешения начальника мест заключения, заниматься в своих камерах или в особо отведенных для этого помещениях письменными работами и ремесленным трудом. Решение вопроса о возможности предоставления арестанту необходимых для работ материалов и инструментов зависит от начальника места заключения». Иными словами, труд «политика» в тюрьме – дело сугубо добровольное, а его безделье здесь охранялось законодательно.
Политическому арестанту, имевшему разрешение смотрителя на письменные занятия, выдавалась приобретаемая на его средства тетрадь. Она пронумеровывалась, прошнуровывалась и скреплялась казенной печатью, при этом просматривалась «по возможности чаще чинами тюремной администрации».
Согласно статье 32-й, вся личная переписка политических арестантов направлялась смотрителем на предварительное рассмотрение лицу прокурорского надзора. Туда же отправлялись все письменные ходатайства и заявления. Политическим арестантам дозволялось чтение книг и журналов (ст. 36), как выдаваемых в тюремной библиотеке, так и приобретаемых ими на собственные средства или доставляемых им извне. При этом для чтения разрешались все книги и издания, за исключением запрещенных к обращению в публичных библиотеках, а также номеров газет и журналов, вышедших в течение последних 12 месяцев. Каждый политический арестант мог иметь в своем распоряжении одновременно не более трех книг и трех справочных пособий (географические карты, лексиконы, таблицы и пр.).
Статья 43-я разрешала свидания политических арестантов с ближайшими родственниками, но «не более 2 раз в неделю, в дни и часы, определенные начальником места заключения на общем основании». При этом, что вполне закономерно, «приношения пищи в готовом виде или в продуктах для передачи политическим арестантам» не дозволялись, за исключением чая и сахара. А принесенные деньги и другие дозволенные предметы принимались в тюремной конторе не более двух раз в неделю в определенные дни и часы и подвергались тщательному осмотру чинами тюремной администрации. Передача между собой денег и вещей политическими арестантами воспрещалась1.
Как видим, тюремный режим для политических ссыльных был скорее лояльным и мягким, чем суровым, и уж никак не «каторжным». Тем не менее политические заключенные всегда его нарушали и широко пользовались незаконными льготами. Их камеры превращались в настоящие автономные коммуны с выборным руководящим коллективом, где имелись нелегальные книги, издавались рукописные журналы, проводились дискуссии по проблемам революционного движения, была налажена постоянная связь с «волей». Быт таких ссыльных был вполне сносным, а свободное от прогулок время можно было расходовать для самообразования. Санитарной очисткой камер политических, несмотря на требования циркуляра, повсеместно занимались уголовные каторжане. Вместе с тем надо понимать, что такое льготное содержание революционеров было результатом упорного противостояния администрации, бескомпромиссной борьбы за свои права и человеческое достоинство.
При этом, несмотря на либеральный режим, отсутствие принудительного труда, нужно все-таки понимать, что тюремное заключение всегда было суровым наказанием для революционера. Безделье переносилось с большим трудом, однако самым страшным испытанием была невозможность уединиться, отказаться от общих разговоров и обсуждения уже хорошо известных тем. В этой ситуации в первую очередь страдала психика человека, его душевное равновесие. Неслучайно среди политических каторжан было так много больных и нервных людей. В такой атмосфере любая попытка ограничить права встречала резкий болезненный протест, а крайняя мера – самоубийство – уже не казалась революционерам проявлением слабости духа.
Важнейшим источником изучения особенностей содержания политических преступников являются материалы Государственного архива Иркутской обла- сти. Именно в его фондах содержатся ценные сведения, касающиеся специфики отбывания ими наказания [Иванов, Курас, Курас 2022: 214].
Начальник конвойной команды, доставившей политических в Александровский централ, сдавал в канцелярию тюрьмы статейные списки, заполненные отдельно на каждого каторжанина. В этом своеобразном «паспорте ссыльного» содержались основные и особые приметы арестанта – откуда он прибыл, каким судом осужден и на какой срок и т.д. В нашем распоряжении имеется дело на М.А. Трилиссера, а в нем – статейный список на будущего руководителя внешней разведки ГПУ СССР, расстрелянного в 1940 г. Статейный список № 159 был заведен Санкт-Петербургским губернским правлением 16 октября 1909 г. на Меера Абрамовича Трилиссера (в документе – обязательно в именительном падеже), каторжного, следующего «без женщ. и детей старше/моложе 10 л.». В графе «Куда назначен для отбытия наказания» записано: «По распоряжению Глав. Тюр. Упр. от 25 февраля 1911 г. за № 6171 в Шлиссельбургскую каторжную тюрьму». Далее шли графы «Следует ли в оковах или без оков» – «В ножных кандалах». «Может ли следовать пешком – может».
Затем статейный список содержал приметы каторжанина – рост, цвет глаз и волос, далее имелась графа «Племя», содержащая надпись «еврей»; из мещан города Белой Церкви Киевской губернии; преподавал частные уроки и сотрудничал в газетах; мастерства не знает; природный язык русский; холост; 6 классов гимназии; вероисповедание иудейское. Осужден Петербургским Военноокружным судом 11 сентября 1909 г. В графе «К какому наказанию приговорен» написано: «к каторге на пять /5/ лет, со всеми законными последствиями сего наказания». При этом Трилиссер признан виновным в участии «в преступном сообществе, составившемся для учинения насильственного посягательства на изменение в России установленного законами основными образа правления». В деле имеются также две справки. Одна – приложение к статейному списку, в которой сказано: «По журналу Присутствия Петроградского губернского правления арестант Меер Трилиссер за окончанием 13 сентября 1914 года полного срока каторжных работ перечислен с означенного числа в разряд ссыльнопоселенцев». Другая – донесение Малышевского волостного правления о том, что Трилиссер прибыл «15 сего ноября» и в «алфавите правления записан под № 95». Таким образом, М.А. Трилиссер был в Александровском централе в качестве пересыльного арестанта непродолжительное время, а затем «убыл» в составе очередного этапа в Малышевскую волость Балаганского уезда Иркутской губернии1.
Несмотря на «льготное» содержание политических, вся их переписка, как, впрочем, и уголовных арестантов, подлежала контролю и просмотру. Только корреспонденция уголовных, по всей видимости, просматривалась администрацией централа, а политических отсылалась для исследования в Иркутское губернское жандармское управление или Иркутский окружной суд. Об этом говорят и многочисленные архивные документы. Так, начальник Александровской пересыльной тюрьмы отправлял поступившие письма для политических арестантов и неизменно сопровождал посылки подобными уведомлениями: «При сем представляю на распоряжение 36 писем, полученных с почты на имя политических арестантов Евсея Алексеева, Иосифа Хоммер, Артемия Худолея» и т.д.2 После проверки письма поступали назад в тюрьму, опять же с надлежащим отношением. Можно с уверенностью сказать, что контроль за перепиской политических каторжан был налажен надлежащим образом.
Нередко письма политических арестантов задерживались на проверке слишком долго, что вызывало с их стороны заслуженное недовольство. Вот, к примеру, письмо В.Д. Гурари-Бучульской иркутскому полицеймейстеру: «С момента моего ареста вся корреспонденция, адресованная мне, на мое имя, должна быть поступаема в жандармское управление, откуда все, что по делу находится возможным, мне точно и аккуратно доставляется, а между тем со своего ареста я не получала ни одного письма ни от дочери своей из Петербурга, ни от матери своей из Франции, а письма эти несомненно были мне посланы. Куда деваются они? Я просила бы господина полицеймейстера справиться об этом в своей канцелярии и доставить их в жандармское управление … апреля 25 дня 1902 г.»1.
Обнаруженные в переписке сведения «запрещенного характера» существенно влияли на судьбу арестантов, как правило, увеличивая срок их тюремного заключения. Вот, к примеру, письмо смотрителя Тобольского тюремного отделения от 3 января 1911 г. тобольскому губернатору: «Смотритель Тобольской каторжной тюрьмы рапортом от 13 декабря просит о продолжении срока пребывания в отряде испытуемых ссыльнокаторжным Александру Сергееву Краснову и Аркадию Антонову Краковецкому, у которых при обыске были найдены письма, в которых они описывают существующие в тюрьме порядки в извращенном виде, причем Краснов и Краковецкий сознались, что письма эти они предполагали отправить нелегальным путем для оглашения в печати. Тюремный инспектор Гриневский полагал бы увеличить срок пребывания в отряде испытуемых обоим на 6 месяцев». На это письмо губернатор наложил соответствующую резолюцию: «Согласен». Следует добавить, что и в Александровском централе А.А. Краковецкий столь же активно противодействовал тюремной администрации, как и в Тобольске2.
Хорошо поставленный контроль за корреспонденцией каторжан и ссыльных позволял предотвратить не только нарушения тюремного режима, но и планируемые побеги и даже готовившиеся террористические акты. Именно перлюстрация позволила раскрыть готовившееся покушение на жизнь начальника Александровской пересыльной тюрьмы Чусова в 1908 г. Иркутское губернское жандармское управление располагало сведениями, что еще в 1907 г. за установление строгого режима внутреннего содержания Чусова должны были убить, причем «ненависть арестантов» распространялась также на смотрителя Центральной каторжной тюрьмы Панчина, доктора Гольшуха и старших надзирателей Медведева и Токарева. Из перехваченной переписки ссыльнопоселенцев следовало, что главным исполнителем задуманного должен был быть бывший ссыльнокаторжный, освобожденный ранее из пересыльной тюрьмы и поселенный в Идинской волости Балаганского уезда Филипп Ионов. Ионов ждал к себе «товарищей из Верхнеудинска» и для осуществления теракта планировал найти сообщников среди арестантов вольной команды3.
Таким образом, порядок содержания осужденных по политическим статьям преступников имел и на законодательном, и на организационном уровне свои особенности. В отдельных случаях это были послабления режима содержания, распорядка дня и досуга. В других вопросах их положение в централе было более жестким. К примеру, это касалось корреспонденции «политиков», она более тщательно и долго проверялась не тюремной администрацией, а Иркутским губернским жандармским управлением или Иркутским окружным судом. Поэтому дальнейшее изучение темы Александровского каторжного централа сможет раскрыть еще немало новых граней истории этих мест и самих осужденных.
Список литературы Порядок содержания политических преступников в Александровском централе
- Иванов А.А., Курас Т.Л., Курас С.Л. 2022. История судебных и иных правоохранительных органов в дореволюционный период: путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области как источник изучения. - Власть. № 1. С. 214-219. EDN: FATEHE
- Кудрявцев Ф.А. 1936. Александровский централ (Из истории сибирской каторги). Иркутск: Восточно-Сибирское краевое издательство. 97 с.
- Мулукаев Р.С. 1964. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. М.: Высшая школа МООП РСФСР. 28 с.