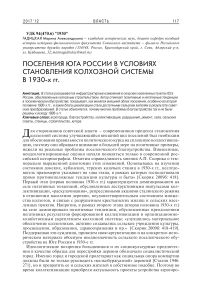Поселения юга России в условиях становления колхозной системы в 1930-х гг
Автор: Гадицкая Марина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются инфраструктурные изменения в сельских населенных пунктах Юга России, обусловленные колхозным строительством. Автор отмечает позитивные и негативные тенденции в поселенческом обустройстве; показывает, как менялся внешний облик поселений, особенно во второй половине 1930-х гг., и какие блага цивилизации стали доступными сельским жителям в результате советских преобразований. В статье объясняется, почему многие проблемы благоустройства так и не были решены к исходу 1930-х гг.
Агрогорода, благоустройство, коллективизация, разрушения, ремонт, села, сельские советы, станицы, строительство, хутора
Короткий адрес: https://sciup.org/170168663
IDR: 170168663 | УДК: 94(470.6)"1930"
Текст научной статьи Поселения юга России в условиях становления колхозной системы в 1930-х гг
Д ля сторонников советской власти – современников процесса становления колхозной системы улучшающийся внешний вид поселений был необходим для обоснования правильности политического курса на сплошную коллективизацию, поэтому они обращали внимание в большей мере на позитивные примеры, нежели на реальные проблемы поселенческого благоустройства. Взвешенные, неидеологизированные оценки начали появляться только в современной российской историографии. Отметим справедливость мнения А.П. Скорика о тем-порально выраженной дихотомии этих изменений. Основываясь на изучении состояния донских, кубанских, терских казачьих станиц в 1930-х гг., исследователь правомерно указывает на «два этапа, в рамках которых господствовали прямо противоположные тенденции культуры и быта» [Скорик 2009б: 418]. Первый этап (первая половина 1930-х гг.) характеризуется доминированием на селе негативных тенденций, обусловленных деструктивными импульсами коллективизации, «раскулачивания», репрессивными акциями сталинского режима в отношении населения деревни, неудовлетворительным состоянием множества колхозов, и связан с разрушением крестьянских жилищ и сельских населенных пунктов. Напротив, в рамках второго этапа (вторая половина 1930-х гг.) на селе доминировали позитивные тенденции, обусловленные преодолением негативных результатов форсированной коллективизации и организационнохозяйственным укреплением колхозной системы: «улучшилось материальное обеспечение колхозников, активно создавались сельские учреждения культуры, просвещения, образования, здравоохранения и пр.» [Скорик 2009б: 418-419]. Поддерживая эти суждения, приведем свою аргументацию и на конкретно-историческом материале обоснуем неоднозначность сельского поселенческого обустройства на Юге России в 1930-е гг.
Идеологические воззрения большевиков и их социокультурные предпочтения в качестве образца для перестройки деревни обозначали социалистический город. Именно город и городской пролетариат как социальная опора компартии должны были не только руководить «мелкобуржуазной» деревней [Сталин 1946: 271], но и превратить ее и сельских жителей в собственное подобие. Поэтому во время коллективизации приобрели актуальность проекты устройства агрогоро- дов, в определенной мере перекликавшиеся с европейскими проектами «города-сада» [Гутнов, Глазычев 1990: 85-89] и разрабатывавшиеся еще в 1920-х гг. советскими архитекторами-энтузиастами.
Агрогорода представляли собой населенные пункты, располагавшиеся в сельской местности, но лишенные привычной (хаотичной) деревенской застройки, устроенные по единому плану и по городскому образцу, обеспеченные благами цивилизации (водопроводом, электроэнергией, радио и т.п.), с общественными зданиями, такими как клубы, детские сады, школы и пр. [История советской… 1985: 76-81]. Перечень новых элементов, без которых не мыслилась колхозная деревня, наглядно представлен на одной из иллюстраций в журнале «Коллективист», где изображены телефон, радио, кино, общественная столовая, изба-читальня, детский сад, электрическое освещение1. Возникали в 1930-е гг. также идеи застройки сельских поселений многоэтажными домами.
Но в первой половине 1930-х гг. на Юге России возобладало не переустройство сельских населенных пунктов, а деструктивные тенденции, в т.ч. переселение коммунаров в общежития и разрушение их частных домов2. Широко распространенное бегство крестьян из деревни во время коллективизации, «раскулачивание», репрессии, гибель множества сельских жителей от голода привели к запустению значительного числа жилищ в селах, станицах, хуторах Дона, Кубани, Ставрополья и Терека. В апреле 1934 г. сотрудники Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) фиксировали в сельских районах края 26 тыс. пустующих домов, из них «вполне годных для жилья» – 5,1 тыс. [Бондарев 2009: 277]. По свидетельству работников политического отдела Усть-Лабинской МТС, они бывали в бригадах, в хатах колхозников и даже «посетили дома, в которых уже не было жильцов – кулацкие хаты» [Каравай 1934: 15].
Значительное число опустевших домов (а в иных селениях – большинство) разрушались. Этим занимались местные власти для удовлетворения своих нужд и обычные деревенские обыватели, ломавшие дома бывших односельчан на топливо или стройматериалы. Одновременно растаскивались хозяйственные постройки и ограды в покинутых усадьбах, вырубались росшие там сады [Скорик 2009а: 462-466]. Эта тенденция разрушения подтверждается многочисленными свидетельствами первой половины 1930-х гг. Пострадали станицы Динская, Ленинградская, Копанская, Ново-Щербиновская и др.3
Но сельская действительность была многомерной, и деструктивные явления сосуществовали с позитивными созидательными процессами: совершенствовалась инфраструктура населенных пунктов, прокладывался водопровод, появлялось радиовещание, электрическое освещение, велось строительство и осуществлялся ремонт помещений школ, изб-читален, детских садов, колхозных клубов, принимались меры по обеспечению пожарной безопасности, развернулась борьба за улучшение санитарно-гигиенических условий в хуторах, селах и станицах и т.д. Такая разумная стратегия способствовала расширению социальной базы преобразований и повышению их результативности.
Сельсоветам Дона, Кубани, Ставрополья и Терека, особенно состоявшим из неравнодушных, добросовестных работников и возглавлявшимся инициативными председателями, а не «портфельщиками» [Панкова-Козочкина 2014: 276], даже в условиях «великого перелома» удавалось изыскивать возможности и средства для строительства общественных зданий, озеленения, поддержания сел и станиц в порядке и чистоте. Большую помощь оказывали местные колхозы (обычно это делали крепкие в организационно-хозяйственном отношении хозяйства): они предоставляли работников, тягло, повозки и материалы. В частности, к середине 1930-х гг. на Кубани «один из лучших образцов борьбы за культурный быт, за благоустройство села» представляла станица Дондуковская Майкопского района. Станичный совет бдительно следил за побелкой жилых домов, содержанием в порядке оград и прилегающей к домовладениям территории: на одной из фотографий, где запечатлена станичная улица, видны аккуратные заборы из штакетника, перед которыми ровными рядами высажены побеленные известью молодые деревца. Кроме того, Дондуковский стансовет провел подготовительные мероприятия к организации в станице парка культуры и отдыха1.
Представители власти прилагали существенные усилия к улучшению санитарии и гигиены в южнороссийских селениях. Характерным является принятое в июле 1934 г. Вешенским райкомом ВКП(б) решение о создании из числа работников райкома комиссии «для приведения в порядок улиц и построек станицы Вешенской»: организации побелки домов, устройства или восстановления оград в домовладениях, мощения улиц и очистки их от сорняков2.
При оздоровлении сельской действительности власти большие надежды возлагали на колхозниц-активисток [Гадицкая, Бондарев 2014: 110-111]. Когда в январе 1934 г. в Благодарненском районе Ставрополья прошел слет колхозниц-ударниц, его участницы обратились к односельчанкам с призывом «включиться в культурный поход», развернуть соревнование за лучший чистый двор, чистую хату, и пр.3 В сентябре того же года Ставропольская районная конференция колхозниц-ударниц приняла обращение, в котором говорилось: «Приехав домой, мы развернем на деле месячник борьбы за чистоту, за хорошее санитарное состояние села и человеческую гигиену. В этот месячник мы обязаны выдрать бурьян с улиц сел и хуторов, убрать мусор, обломки камней, привести в чистоту свои улицы, каждый дом выбелить, навести чистоту во дворе и обязательно в каждом колхозе построить общеколхозную культурную баню»4. Для подъема женской активности в общественных делах власти использовали даже слеты «ударниц-старух» [Гадицкая, Скорик 2009: 169].
В середине – второй половине 1930-х гг. в селе Изобильном Северо-Кавказского края появился водопровод [История городов… 2002: 302]. Но нередко на Юге России селения либо вовсе не имели источников и колодцев (из-за чего жителям приходилось устраивать цистерны для сбора и хранения дождевой воды), либо качество колодезной воды оставляло желать лучшего. Так, в кубанской станице Полтавской вода была соленая, «пахла болотом и была жесткая от присутствия извести». Однако здесь же к концу 1920-х гг. работали две электростанции – одна «для кино», вторая – для «освещения на 1000 лампочек» [Тархова 1997: 38, 39] при наличии 2,6 тыс. дворов.
Во второй половине 1930-х гг. постепенно формировался центральный архитектурный ансамбль коллективизированных сел и станиц Юга России: «на центральных улицах или площади расположены здания правления колхоза, сельского Совета, клуба или дома культуры, кинотеатра, библиотеки, почтового отделения, сберкассы, магазинов, рынка, различных мастерских бытового обслуживания, столовой и др. В центре станицы много зеленых насаждений, цветников, есть скверы, парк» [Кубанские… 1967: 123]. Одним из непременных советских архитектурных элементов каждого более или менее крупного сельского населенного пункта являлся памятник либо обелиск. Они фиксируются в селах и станицах Юга России уже с 1920-х гг. [Багдасарян, Скорик 2012: 57-62], а в 1930-х гг. масштабы подобной практики увеличились. Обычно в 1930-х гг. сооружались памятники В.И. Ленину, И.В. Сталину, а также борцам за советскую власть, погибшим в годы Гражданской войны. В донской станице Каргинской «посреди площади [имелось] отгороженное место с памятником черным, деревянным и надпись: “Борцам пролетарской революции, погибшим в борьбе с бандитизмом”. И вокруг огород, очевидно школьный» [Михаил Шолохов… 2005: 280]. В центре поселка Целина Ростовской области можно было увидеть «небольшого, размером в мальчика, гипсового Ленина. Он выбеливается так часто, столь густо, что утолщенные мелом ленинские лацканы, воротничок, галстук слиты в одно, как общее творчество многих женщин-активисток, выбеливающих монумент ко всем праздникам и после каждой пыльной бури. У подножья памятника пестреют обильно политые петуньи»1.
К исходу 1930-х гг. не только на Дону, но и на Кубани, Ставрополье, Тереке насчитывалось немало благоустроенных сел и станиц. Ставропольские исследователи в 1939 г. с обоснованной гордостью утверждали: «Мы сейчас очевидцы того, как меняют облик ставропольские селения, терские станицы…» [Наш край… 1939: 38]. Партработники Ипатовского района Орджоникидзевского (Ставропольского) края гордо заявляли: «Мы в райцентре [село Ипатово] построили хорошие дороги»2. В селе Петропавловском Арзгирского района того же края имелись средняя школа, стадион, Дом культуры, больница, почта, магазин, мельница, а в селе Серафимовском того же района и края функционировали средняя школа, библиотека, киноустановка, детские дошкольные учреждения [История городов… 2002: 212, 217].
Однако нерешенных проблем в сельской обыденности на Дону, Кубани, Ставрополье и Тереке с избытком хватало и на исходе 1930-х гг. Так, в 1938 г. хутор Базки (районный центр Ростовской области) оставался «крайне неблагоустроенным»3. Летом 1940 г. Благодарненский райком ВКП(б) Орджоникидзевского края признавал неудовлетворительным водоснабжение населенных пунктов, включая и райцентр. Население вынужденно собирало дождевую воду в цистерны или бассейны, но если наступала засуха, то воду приходилось привозить за 15–20 км. Жители района пользовались также водой из балки Мокрая Буйвола, загрязненной и с горько-соленым вкусом. Начавшееся в районе в 1937 г. строительство водопровода, на которое потратили около 1 млн руб., законсервировали в связи с дефицитом средств (требовалось до 3 млн руб.)4.
Осенью и весной, зимой (во время оттепели) и летом (после дождей) селянам приходилось передвигаться по такой «жуткой» и «могучей» грязи, из нее сложно было вытащить ногу. Если в грязь забредал инвалид, то ему приходилось дожидаться помощи, чтобы выбраться на сухое место. Председатель Усть-Лабинской коммуны «Ленинские заветы» был безногим инвалидом, «его протез постоянно застревал в грязи, и в ней несчастный председатель простаивал часами, пока не выручали» [Каравай 1934: 33]. Наученные горьким опытом, сельские жители обычно не месили грязь посреди улицы, а предпочитали пробираться вдоль улиц «по плетням». Подобная зарисовка встречается у М.А. Шолохова, когда весной старший агроном Черноярской МТС Николай Стрельцов едет на коне по улице своего родного хутора Сухой Лог и видит неподалеку «осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи [учителя] Овражнего»1 – того самого, который завел шашни с женой Стрельцова. Заметим, в 1930-х гг. крестьяне считали грязь чем-то вроде эталона крайней отсталости, дремучести, неблагоустро-енности деревни: «Чего мы в наших хуторах видели, кроме грязюки?»2.
Итак, на протяжении 1930-х гг. мероприятия местных властей на Юге России, осуществленные и поддержанные сельской интеллигенцией и активистами, женщинами-ударницами, колхозами, совхозами и МТС, строительными организациями и т.д., привели к повышению степени благоустройства и оптимизации санитарно-гигиенических условий во многих селах и станицах. Разрушительные импульсы сплошной коллективизации в начале – первой половине 1930-х гг., оказавшие крайне негативное влияние на сельскую обыденность, во второй половине десятилетия были постепенно преодолены. Вместе с тем даже к исходу 1930-х гг. результаты модернизации сельских населенных пунктов Юга России оставались скромными в связи с огромным объемом работ, финансовыми затруднениями и дефицитом ресурсов. Крестьянский образ жизни по-прежнему сильнейшим образом отличался от городского. Замыслы большевиков о коренной перестройке деревни по образцу социалистического города, о ликвидации различий между городом и деревней не были воплощены в жизнь в 1930-х гг. в сколь-нибудь значительной степени.
Список литературы Поселения юга России в условиях становления колхозной системы в 1930-х гг
- Багдасарян С.Д., Скорик А.П. 2012. Крестьянская повседневность эпохи нэпа: досуг и праздник в южно-российской деревне в 1920-е годы. Новочеркасск: Лик. 239 с
- Бондарев В.А. 2009. Сельское жилище на Дону и Кубани в эпоху «великого перелома»: масштабы и направления трансформаций // Повседневный мир советского человека 1920-1940-х гг.: сборник научных статей. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 273-283
- Гадицкая М.А., Бондарев В.А. 2014. Трудовая повседневность колхозной деревни: складывание новых производственных отношений в селах и станицах Юга России 1930-х годов. Новочеркасск: Лик. 284 с
- Гадицкая М.А., Скорик А.П. 2009. Женщины-колхозницы Юга России в 1930-е годы: гендерный потенциал и менталитет. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 324 с
- Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. 1990. Мир архитектуры: Лицо города. М.: Молодая гвардия. 352 с
- История городов и сел Ставрополья: краткие очерки. (науч. ред. А.А. Кудрявцев, Д.В. Кочура). 2002. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство. 702 с
- Каравай М. 1934. Политотдел. М.: Партиздат. 80 с
- Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани (отв. ред. К.В. Чистов). 1967. М.: Наука. 356 с
- Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. В 2 кн. Кн. 1. 1905-1941 гг. 2005. М.: Шолоховский центр МГОПУ им. М.А. Шолохова. 813 с
- Наш край (сельское хозяйство Орджоникидзевского края) (под ред. В. Воронцова, Р. Саренца). Вып. 1. 1939. Пятигорск: Книжное издательствово. 44 с
- Панкова-Козочкина Т.В. 2014. Казачье-крестьянское самоуправление эпохи нэпа: проблемы модернизации властных отношений на Юге России в 1920-е годы. Новочеркасск: Лик. 308 c.
- Скорик А.П. 2009а. Казачество Юга России в 30-е годы ХХ века: исторические коллизии и опыт преобразований. дис... д.и.н. Ставрополь. 540 с.
- Скорик А.П. 2009б. Казачий Юг России в 1930-е годы: грани исторических судеб социальной общности. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 508 с.
- Сталин И.В. 1946. Современный момент и объединительный съезд рабочей партии. – Сочинения. М.: ОГИЗ. Т. 1. С. 250-276.
- Тархова Н.С. 1997. Участие Красной Армии в заселении станицы Полтавской зимой 1932/1933 гг. (По материалам РГВА). – Голос минувшего. № 1. С. 38-42.