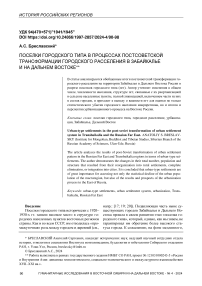Поселки городского типа в процессах постсоветской трансформации городского расселения в Забайкалье и на Дальнем Востоке
Автор: Бреславский А.С.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются обобщенные итоги постсоветской трансформации городского расселения на территории Забайкалья и Дальнего Востока России в разрезе поселков городского типа (пгт). Автор уточняет изменения в общем числе, численности населения, структуре пгт, связанные с их реорганизацией в сельские населенные пункты, полной ликвидацией, включением части из них в состав городов, и приходит к выводу о важности пгт для оценки не только статистического убытия городского населения макрорегиона, но и итогов и перспектив урбанизационного процесса на Востоке России.
Поселки городского типа, городское расселение, урбанизация, забайкалье, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/170208809
IDR: 170208809 | УДК: 94(470+571)"1941/1945" | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-4/90-98
Текст научной статьи Поселки городского типа в процессах постсоветской трансформации городского расселения в Забайкалье и на Дальнем Востоке
Поселки городского типа исторически с 1920– 1930-х гг. заняли весомое место в структуре городских населенных пунктов восточных регионов страны. Как и во всем СССР, им отводилась «промежуточная» роль между городом и деревней (см., напр.: [17; 19; 20]). Подавляющая часть ныне существующих городов Забайкалья и Дальнего Востока прошла в своем развитии этап «поселка городского типа», который, однако, как мы знаем, не гарантировал им обретение более высокого статуса города. К сожалению, на фоне медленного, но продолжающегося роста числа работ по истории конкретных городов макрорегиона, выполненных учеными и краеведами, советская и постсоветская история поселков городского типа в основном все еще слабо изучена, причем как в сравнительном плане, так и в разрезе конкретных пгт. К этому выводу мы пришли в результате работы с широким корпусом литературы во всех центральных библиотеках 11 регионов Дальневосточного федерального округа в рамках экспедиции, которая была организована в марте-июне 2023 г.
В данной статье мы обратим внимание лишь на несколько аспектов позднесоветской и постсоветской истории пгт Забайкалья и Дальнего Востока, связанных с изменениями в их общем числе, в численности их населения, с причинами происходивших в этот период преобразований пгт в сельские населенные пункты, политики ликвидации пгт, включения их в состав отдельных городов. Региональные особенности этих процессов были рассмотрены нами ранее в серии работ 2018–2023 гг. (напр.: [2; 3; 4; 5; 6]), что дает нам возможность в данной статье представить обобщенные результаты этих процессов в масштабе всей территории Забайкалья и Дальнего Востока. Исследование опиралось главным образом на материалы четырех последних переписей населения (далее – ВПН) 1989, 2002, 2010 и 2020 гг. [7; 8; 9; 13], делопроизводственные материалы органов регио- нальной и местной власти (протоколы собраний населения, обоснования преобразований, стенограммы заседаний и пр.), а также на широкий корпус нормативно-правовых актов, посвященных административно-территориальным преобразованиям пгт.
Пгт в итогах советской урбанизации макрорегиона
Всесоюзная перепись 1989 г. зафиксировала на территории Забайкалья и Дальнего Востока СССР 80 населенных пунктов со статусом города и 368 поселков городского типа (с учетом одного пгт без населения – Гоуджекит в Бурятской АССР), в т.ч. лишь 3 курортных поселка [7]. Необходимо учесть, что в открытых материалах переписи не публиковались сведения по закрытым военным поселениям Забайкалья и Дальнего Востока, имевшим статус самостоятельных населенных пунктов [15]. Речь идет, в частности, о поселке Вулканный (Петропавловск-Камчатский-35) у Петропавловска-Камчатского, поселках Дунай и Путятин (Шко-тово-22, Шкотово-26), связанных с г. Фокино (Шкотово-17) Приморского края, поселке Углегорск (Свободный-18, в будущем – город Циолковский) Амурской области, поселке Горный (Чита-46) Читинской области, данные по которым можно найти, в частности, уже в переписи 2002 г. [8]. Иными словами, реальное число пгт макрорегиона к началу 1989 г. было не 367, а 372 (без учета пгт Гоуджекит) (см. табл. 1).
Таблица 1
Общее число пгт Забайкалья и Дальнего Востока разных категорий людности по данным ВПН 1989, 2002, 2010 и 2020 гг.
|
Всего пгт |
Пгт по категориям людности |
|||||||
|
1–1000 чел. |
1–3 тыс. чел. |
3–6 тыс. чел. |
6–9 тыс. чел. |
9–12 тыс. чел. |
12–15 тыс. чел. |
15 и более тыс. чел. |
||
|
ВПН 1989 г. |
3671 |
27 |
107 |
108 |
47 |
43 |
16 |
19 |
|
ВПН 2002 г. |
307 |
64 |
93 |
76 |
30 |
21 |
13 |
10 |
|
ВПН 2010 г. |
216 |
35 |
64 |
60 |
24 |
19 |
10 |
4 |
|
ВПН 2020 г. |
191 |
33 |
63 |
43 |
27 |
15 |
7 |
3 |
Составлено по : [2; 3; 4; 8], а также материалам авторского запроса в региональные отделения Росстата
Общее население пгт Забайкалья и Дальнего Востока, учтенных ВПН 1989 г., составило, по нашим подсчетам, 2,1 млн чел. (см. табл. 2). При весьма значительном количестве пгт по отношению к числу городов (число пгт превышало число городов в 4,5 раза), чем Забайкалье и особенно Дальний Восток исторически отличались от более западных регионов страны [16, с. 29], доля населения пгт в общем городском населении макрорегиона в начале 1989 г. составляла, по- нашим расчетам, чуть менее трети (27,8%) (табл. 3), в то время как на собственно горожан приходилось 72,2%. При этом в разрезе отдельных регионов это значение существенно варьировалось (см. табл. 3). Так или иначе, пгт занимали существенное место в структуре городских населенных пунктов регионов, а их роль в хозяйственном освоении Дальнего Востока, особенно его северо-восточных территорий, оставалась крайне значимой.
Динамика общего населения пгт регионов Забайкалья и Дальнего Востока по данным ВПН 1989, 2002, 2010 и 2020 гг.
Таблица 2
|
Регион |
Численность населения, тыс. чел. |
Убытие населения с ВПН 1989 г. по ВПН 2020 г. |
||||
|
ВПН 1989 г. |
ВПН 2002 г. |
ВПН 2010 г. |
ВПН 2020 г. |
тыс. чел. |
% |
|
|
Республика Бурятия |
188,6 |
137,6 |
77,3 |
58,6 |
-130 |
-68,9 |
|
Забайкальский край |
300,7 |
235,4 |
226,5 |
197,9 |
-102,7 |
-34,2 |
|
Амурская область |
172,9 |
104,3 |
90,5 |
66,6 |
-106,3 |
-61,5 |
|
Еврейская автономная область |
46,8 |
40 |
34,5 |
28,4 |
-18,4 |
-39,3 |
|
Хабаровский край |
204,5 |
151 |
133,2 |
112 |
-92,5 |
-45,3 |
|
Приморский край |
471,9 |
321,1 |
171,9 |
141,7 |
-214,8 |
-70 |
|
Сахалинская область |
116,3 |
73,1 |
33,5 |
42,9 |
- 73,4 |
-63,1 |
|
Республика Саха (Якутия) |
309,9 |
173,9 |
134,8 |
115,3 |
-194,6 |
-62,8 |
|
Магаданская область |
157,1 |
61,5 |
47,9 |
35,9 |
-121,2 |
-77,1 |
|
Чукотский автономный округ |
84,2 |
13,4 |
10 |
9,6 |
-74,6 |
-88,6 |
|
Камчатский край |
52,1 |
20 |
6,9 |
4,1 |
-48 |
-92 |
|
Итого по макрорегиону |
2105,5 |
1331,6 |
967,3 |
813,3 |
-1292,2 |
-61,4 |
Рассчитано по : [2; 3; 4; 8], а также материалам авторского запроса в региональные отделения Росстата
Доля пгт в городском населении регионов Забайкалья и Дальнего Востока по данным ВПН 1989, 2002, 2010 и 2020 гг.
Таблица 3
|
Регион |
Численность населения, тыс. чел. |
Изменение, процентные пункты |
|||
|
ВПН 1989 г. |
ВПН 2002 г. |
ВПН 2010 г. |
ВПН 2020 г. |
||
|
Республика Бурятия |
29,5 |
23,5 |
13,6 |
10,1 |
-19,31 |
|
Забайкальский край |
33,5 |
31,9 |
31 |
28,5 |
- 5 |
|
Амурская область |
24,2 |
17,6 |
16,4 |
12,8 |
-11,4 |
|
Еврейская автономная область |
32,9 |
31,2 |
29 |
26,7 |
-6,2 |
|
Хабаровский край |
15,9 |
13,1% |
12,2 |
10,4 |
-5,5 |
|
Приморский край |
27 |
19,8 |
11,5 |
9,8 |
-17,2 |
|
Сахалинская область |
19,9 |
15,4 |
8,5 |
11,2 |
-8,7 |
|
Республика Саха (Якутия) |
43,0 |
28,5 |
21,9 |
17,3 |
-25,7 |
|
Магаданская область |
48,3 |
36,4 |
32,0 |
27,4 |
-20,9 |
|
Чукотский автономный округ |
73,7 |
37,5 |
30,6 |
29,7 |
-44 |
|
Камчатский край |
13,8 |
6,9 |
2,8 |
1,8 |
-12 |
|
По макрорегиону в целом |
27,8 |
20,8 |
16,1 |
13,9 |
13,9 |
Рассчитано по : [2; 3; 4; 8], а также материалам авторского запроса в региональные отделения Росстата
Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство – сохранение в конце 1980-х гг. в статусе пгт 35 населенных пунктов Забайкалья и Дальнего Востока с населением более 12 тыс. чел. (табл. 1). Наибольшее их число располагалось в Приморском и Хабаровском краях [5, с. 99; 6, с. 60]. Семнадцать из них имели население от 15 до 22 тыс. чел. А еще два – Большой Камень [10] и Дальнегорск [11] Приморского края с населением 65 и 49 тыс. чел. соответственно [7] фактически могли входить в группу малых и средних городов. 22 сентября 1989 г., уже после переписи населения, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР они получили статус города (Архивный отдел Администрации г. Дальнегорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 2).
Отметим также, что в структуре пгт Забайкалья и Дальнего Востока конца 1980-х гг. 43 поселка имели население от 9 до 12 тыс. чел., что создавало необходимые условия для концентрации в них разных видов производственной деятельности, торговли, транспорта и т.д. 47 поселков имели население от 6 до 9 тыс. чел., еще в 108 проживало от 3 до
6 тыс. чел. При этом не соответствовали формальному критерию численности населения в 3 тыс. чел. [21] целых 134 пгт, в т.ч. 27 пгт, население которых не превышало 1 тыс. чел. В этом смысле малолюдные пгт, как мы выяснили, заметно отличались числом и масштабом от малолюдных городов региона. В специфических условиях Севера и Дальнего Востока многие пгт получали этот статус, не достигнув необходимой отметки в 3 тыс. чел., в т.ч. и потому, что предполагалось, что они имели на тот момент перспективу дальнейшего экономического, социального развития и роста численности населения или бóльшая численность населения им была не нужна, исходя из масштабов организованного в них производства.
Одновременно часть пгт, учтенных в переписи 1989 г., теряла население в более ранний межпереписной период (1979–1989 гг.). Причиной этому могло служить, например, исполнение изначальной функции пгт (по добыче полезного ископаемого, геологоразведке, строительству железной дороги, других производственных и инфраструктурных объектов и т.п.). Отток населения из такого рода пгт в 1990-е гг. обычно лишь усиливался, но не был связан исключительно с экономическими и политическими реформами начала этого десятилетия. Однако до распада СССР общее население пгт Забайкалья и Дальнего Востока продолжало расти как за счет миграции, так и вследствие естественного прироста.
Пгт в условиях постсоветской трансформации
Распад СССР и произошедшие вслед за этим системные реформы кардинально изменили ситуацию. В отличие от городов, в структуре пгт Забайкалья и Дальнего Востока произошли куда бóльшие изменения (см. табл. 1), во многом определившие содержание и масштабы урбанизационного кризиса в этом макрорегионе страны.
В 1990-е гг. в ходе экономических преобразований, разрушения хозяйственных связей и системы государственной поддержки предприятий подавляющее большинство рабочих поселков пережили серьезный социально-экономический и инженерно-бытовой кризис. Их демографическое развитие характеризовалось преимущественно отрицательными показателями естественного прироста и усилившейся миграцией населения.
Одновременно процесс образования новых пгт на этих территориях фактически завершился, как показал наш анализ, к концу 1991 г. и уже не возобновился после распада СССР: с 1992 по 2021 г. ни один сельский или новообразованный населенный пункт в регионах Забайкалья и Дальнего Востока, по нашим данным, не приобрел статуса пгт. Напротив, получили развитие обратные процессы, связанные с административным преобразованием пгт в сельские населенные пункты - поселки и села. Причины и обоснования, по которым осуществлялись преобразования, были различными, но перечень их был весьма узок. На это указывали изученные нами делопроизводственные документы региональных и местных органов власти (протоколы собраний, обоснования решений), нормативно-правовые акты, материалы периодической печати. Инициаторы преобразований (местные и региональные власти, население самих пгт) указывали обычно на утрату промышленного значения населенного пункта, перспектив его промышленного роста, резкое сокращение численности населения, несоответствие социально-бытовой, инженерной инфраструктуры статусу «городского» поселения и т.д. Более весомой причиной становилось желание местных сообществ, муниципальной власти получить дополнительные ресурсы для развития местного сельского хозяйства, фермерства, а также в рамках программ поддержки сельского населения, в т.ч. специалистов-бюджетников (учителей, врачей и т.д.). Эти решения находили поддержку населения пгт (правда, не везде и далеко не всегда всеобщую) и по самым утилитарным причинам: в результате преобразований могли уменьшаться тарифы на отдельные коммунальные услуги (электричество, газ), стоимость автострахования и пр. От статуса пгт отказывались не только мелкие пгт без каких-либо перспектив экономического развития, но и крупные, в частности, районные центры без выраженной промышленной базы. Причем эти процессы в отдельных регионах, например, в Бурятии начались уже в последние годы перестройки. В целом символическое значение статуса поселка городского типа во многих случаях весьма быстро обесценилось под давлением финансовых факторов и усилившихся в большинстве из них в 1990-е гг. инфраструктурных, инженерных, социально-бытовых проблем. На этом фоне выделяется Еврейская автономная область, в которой в рассматриваемый период только 1 из 12 пгт был преобразован в село (п. им. Тельмана у Хабаровска) [3, с. 161-162], в то время как в других регионах эти преобразования оказались куда более масштабными, на что, в частности, указывают данные табл. 1.
Одновременно на фоне усугубляющегося кризиса региональных и локальных экономик в 1990-е гг. часть пгт была полностью упразднена: поселки ликвидировались, расселялись. Этот процесс приобрел выраженный характер в районах Крайнего Севера, дальневосточной Арктике (главным образом в Чукотском автономном
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ округе, Магаданской области, на севере Республики Саха (Якутия)). Учитывая суровые климатические условия, а также нерентабельность сохранения части местных производств, отсутствие перспектив промышленного развития у ряда расположившихся здесь пгт, региональные власти уже с середины 1990-х гг. занялись их вынужденной ликвидацией (см., напр.: [2; 4]). Эти процессы проходили с большими финансовыми и организационными сложностями и противоречиями, весьма болезненно ощущались на местах.
В Забайкалье и на юге Дальнего Востока, напротив, процессы ликвидации пгт не получили сколь-нибудь широкое распространение, при том что местные пгт имели схожие социально-экономические, инфраструктурные и иные проблемы. Кризис большинства пгт приобрел здесь вялотекущий характер, а процессы полной ликвидации отдельных пгт оказались связаны либо с исполнением ими своей основной функции (например, завершение строительства железнодорожной инфраструктуры – пгт Гоуджекит и Тоннельный на бурятском участке БАМ), либо с чрезвычайными обстоятельствами (например, выход на поверхность добываемого урана – п. Октябрьский в Забайкальском крае).
Необходимо отметить, что десятки прежних пгт макрорегиона продолжали функционировать, но уже в статусе сельских населенных пунктов или в качестве микрорайонов отдельных городов, в состав которых они вошли в преддверии переписей населения (например, поселки Заречный и Сокол у г. Улан-Удэ) или в рамках реформы местного самоуправления первой половины 2000-х гг. (поселки Кангалассы и Марха у г. Якутска, поселки Артемовский, Угловое, Заводской у г. Артем, Врангель и Ливадия у г. Находка и т.д.).
Из 372 пгт, которые обладали этим статусом к ВПН 1989 г., только 6 пгт к началу 2020-х гг., т.е. за более чем 30 лет, приобрели статус города. Помимо указанных выше пгт Большой Камень и Дальнегорск в 1993 г. городом становится локальный центр золотодобычи Билибино на Чукотке [22] (при этом в 1990-е гг. он теряет 60% своего населения), в 1997 г. – якутские пгт Покровск (строительный центр недалеко от Якутска) и Нюрба (новый центр алмазодобычи) [14], а в 2015 г. – Углегорск [12], получивший новое имя – город Циолковский [23], в связи со строительством космодрома Восточный [18]. В целом мы видим, что наряду с фактической остановкой процесса образования новых пгт, не выразительными оказались и процессы градообразования на территории макрорегиона. Показательно также, что из 6 городов ДФО, которые утратили этот статус в 1990-е – 2010-е гг., лишь 1 (г. Шахтерск Сахалинской области) был «разжалован» в пгт, в то время как остальные стали сельскими населенными пунктами.
В результате описанных выше преобразований в период с ВПН 1989 г. по ВПН 2020 г. общее число населенных пунктов Забайкалья и Дальнего Востока со статусом пгт уменьшилось с 372 (с учетом закрытых поселков) до 191, т.е. почти вдвое. При этом уже к ВПН 2002 г. общее число пгт снизилось до 307, а к ВПН 2010 г. – до 216 (Табл. 1). Фактически большая часть преобразований 2000-х гг. произошла к середине этого десятилетия, что было связано с общегосударственной муниципальной реформой, формированием в России новой конфигурации сети городских и сельских поселений, городских округов.
Среди 191 пгт, сохранивших этот статус, общий прирост населения за последние три межпереписных периода показали только 9 поселков, причем 5 из них – в Забайкальском крае (Агинское, Могойтуй в Агинском Бурятском округе края, а также поселки Забайкальск, Ясногорск и Атамановка), 3 – в Республике Саха (Якутия) (пристоличные Жатай и Нижний Бестях, а также поселок алмазодобытчиков Айхал) и еще 1 – в Сахалинской области (им стал пгт Южно-Ку-рильск – крупнейший населенный пункт на Курильских островах, население которого стабильно превышало число жителей двух городов на этих островах – Курильска и Северо-Курильска). В остальных 182 пгт было зафиксировано общее убытие населения.
Население пгт, сохранивших свой статус к ВПН 2020 г., по отношению к ВПН 1989 г. уменьшилось с 1 351 до 790 тыс. чел., т.е. на 41,5% (без учета 5 поселков, не учтенных ВПН 1989 г., и пгт Шахтерск, который до 2017 г. имел статус города). Если говорить об общем населении пгт с учетом административных преобразований, то с конца 1980-х гг. по начало 2020-х гг. оно уменьшилось с 2,1 млн до 813 тыс. чел. (табл. 3), т.е. более чем в 2 раза (61%). Доля пгт в городском населении Забайкалья и Дальнего Востока сократилась в этот период вдвое – до 13,9% (табл. 2). Статистически именно сокращение населения пгт на 1,3 млн чел. во многом определило общие показатели убытия городского населения Забайкалья и Дальнего Востока в период между ВПН 1989 г. и ВПН 2020 г. (1,7 млн чел.) (рассчитано по: [7; 13]). Одновременно «административная рурализация» [1, с. 91] (преобразование пгт в сельские населенные пункты) повлияла и на фактическую неизменность общей доли городского населения в макрорегионе (73–73,6%), что отражало общероссийские тенденции [24, с. 18].
Существенное сокращение общего числа пгт в результате их преобразования в сельские населенные пункты и ликвидации, снижение численности населения в подавляющем большинстве пгт, сохранивших свой статус, привели и к трансформации структуры этих населенных пунктов по людности. Если на момент переписи 1980-х гг. в Забайкалье и на Дальнем Востоке население целых 35 пгт превышало 12 тыс. чел. (что в определенной мере позволяло им претендовать на статус города), то к началу 2020-х гг. таких пгт осталось 10. Существенно сократилось число пгт с населением 1–3, 3–6, 6–9 тыс. чел., при этом количество пгт с населением до 1 тыс. чел. чуть увеличилось (с 27 до 33) (табл. 1). Характерно, что ВПН 2020 г. зафиксировала целых 6 пгт региона с населением менее 40 чел., 5 из них – в Магаданской области, 1 – в Республике Саха (Якутия) [13].
Заключение
Постсоветская история пгт Забайкалья и Дальнего Востока фактически указала на их высокую уязвимость по отношению к общегосударственному кризису, ослаблению государственной поддержки. В отличие от городов макрорегиона пгт заметно чаще утрачивали статус городских населенных пунктов, подвергались ликвидации или попросту оказывались заброшенными (на северо-востоке), утратив перспективы развития. В наилучшей позиции оказались те из них, что к концу 1980-х гг. имели тесные связи с расположенными рядом средними и более крупными городами, в пределах городских агломераций или выполняли функции районных центров, в т.ч. имея районообразующее значение. В условиях рационализации и оптимизации систем расселения 1990-х – 2010-х гг. остальные пгт, как правило, оказывались в куда менее выгодных условиях, располагали меньшим числом ресурсов и пр.
Произошедшие изменения в общем числе, численности и структуре пгт Забайкалья и Дальнего Востока, наряду с другими тенденциями и показателями (в оценке градообразова-ния, движения населения в городах различных категорий, городских агломерациях и пр.), свидетельствуют об общем кризисном характере постсоветского этапа в истории урбанизационного процесса в этом макрорегионе России. Продолжающаяся урбанизация, набирающая обороты субурбанизация получили здесь основное развитие, прежде всего, в отдельных городах, в то время как пгт преимущественно остались на периферии этих процессов. Неясность реальных перспектив экономического развития, «догоняющий» и недостаточный характер инфраструктурной модернизации, развитие вахтовых поселений в новых точках хозяйственного освоения территории – по этим и другим причинам в подавляющем большинстве пгт Забайкалья и Дальнего Востока после острого кризиса 1990-х гг. так и не возникли значимые основания для их уверенного демографического, экономического и административно-территориального роста.
Список литературы Поселки городского типа в процессах постсоветской трансформации городского расселения в Забайкалье и на Дальнем Востоке
- Алексеев А.И., Зубаревич Н.В. Кризис урбанизации и сельская местность России // Миграция и урбанизация в СНГ и Балтии в 90-е годы. М.: Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, 1999. С. 83–94.
- Бреславский А.С. «Нерентабельная» урбанизация: трансформация сети городских поселений Чукотки в конце 1980-х – 2010-х гг. // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН. 2022. № 4. С. 53–60.
- Бреславский А.С. Городское население Еврейской автономной области в исторической динамике конца 1980–2010-х гг. // Крестьяноведение. 2022. Т. 7. № 3. С. 151–173.
- Бреславский А.С. Кризис урбанизации в Магаданской области (конец 1980-х – 2010-е гг.): динамика структурных и демографических показателей // Oriental Studies. 2022. Т. 15. № 6. С. 1227–1243.
- Бреславский А.С. Урбанизационный кризис и трансформация городского расселения в Хабаровском крае (1990–2010-е гг.) // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18. № 1. С. 97–106.
- Бреславский А.С. Городское население Приморского края: динамика структурных и демографических показателей (1989–2020 гг.) // Уральский исторический вестник. 2023. № 2. С. 58−67.
- Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу // Демоскоп Weekly. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ ssp/rus89_ reg2.php
- Всероссийская перепись населения 2002 г. Численность городского населения России, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу // Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ rus02_ reg2.php
- Всероссийская перепись населения 2010 г. Численность населения городских населенных пунктов Российской Федерации // Демоскоп Weekly.URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ ssp/ rus10_reg2.php
- Город атомных субмарин: Большому Камню – 65 лет. Хабаровск: Приамурские ведомости, 2012.
- Дальнегорск. Очерки по географии и истории. Дальнегорск, 2007.
- Закон Амурской области от 29.09.2015 г. № 578-ОЗ «О преобразовании поселка Углегорск Амурской области» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/ document/432917441
- Итоги ВПН–2020. Т. 1. Численность и размещение населения // Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ). URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom1_Chislennost_i_razmeshchenie_naseleniya
- Постановление Палаты Республики Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 26.09.1997 г. № ПР 285-1 «О преобразовании поселков Нюрба Нюрбинского улуса и Покровск Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) в города республиканского подчинения» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/473511159
- Распоряжение Правительства РФ от 04.01.1994 г. № 3-р (Перечень официальных географических названий населенных пунктов, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях) // Предпринимательское право.URL: https://www.businesspravo.ru/ Docum/Docum Show_Docum ID_48753.html
- Сенявский А.С. Российский город в 1960-е – 80-е гг. М.: ИРИ РАН, 1995.
- Симагин Ю.А. Поселки городского типа России: трансформация сети и особенности населения. М.: Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, 2009.
- Страны космическая гавань. Углегорску 50 лет. Благовещенск: Платина, 2012.
- Трубе Л.Л., Хорев Б.С. Новые города на карте Родины. М.: Знание, 1970.
- Трубе Л.Л. Поселки городского типа и особенности их развития // Известия Всесоюзного географического общества. 1970. Т. 102. Вып. 4. С. 356–362.
- Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17.08.1982 г. «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9018577
- Указ Президиума Верховного Совета РФ от 28.06.1993 г. № 5279-I «Об отнесении рабочего поселка Билибино Билибинского района Чукотского автономного округа к категории городов районного подчинения» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102024529
- Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 411-ФЗ «О присвоении образованному в Амурской области городу наименования – Циолковский» // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40359
- Чучкалов А.С., Алексеев А.И. «Новые» сельские населенные пункты – бывшие поселки городского типа // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2019. № 6. С. 18–34.