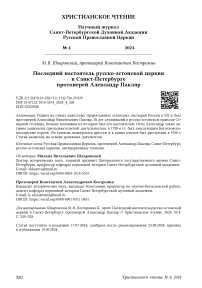Последний настоятель русско-эстонской церкви в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Пакляр
Автор: Шкаровский М.В., Костромин К.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История русской церкви в советской России
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Одним из самых известных православных эстонских пастырей России в XX в. был протоиерей Александр Викентьевич Пакляр, 30 лет служивший в русско-эстонском приходе Северной столицы, больше половины из которых был его настоятелем. Отец Александр также активно занимался преподавательской деятельностью, в 1920-е гг. был заведующим Богословско-пастырских курсов. Он трижды подвергался арестам и в конце концов был расстрелян в 1938 г. Статья написана на основе архивных документов.
Русская православная церковь, протоиерей александр пакляр, санкт-петербург, русско-эстонская церковь, антицерковные гонения
Короткий адрес: https://sciup.org/140308065
IDR: 140308065 | УДК: 271.2(470.23-25)(=511.113)-726.25:929 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_320
Текст научной статьи Последний настоятель русско-эстонской церкви в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Пакляр
Archpriest Konstantin Alexandrovich Kostromin
Candidate of Historical Sciences, Candidate of Theology, Vice-Rector for Theological Studies, Associate Professor of the Department of Church History at the St. Petersburg Theological Academy.
Одним из самых известных православных эстонских пастырей в Северной столице России в XX в. был прот. Александр Викентьевич Пакляр, прослуживший в русско-эстонском приходе Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда 30 лет, больше половины из которых был его настоятелем. Он родился 23 августа 1873 г. в селе Каролен (Королино) Верроского уезда Лифляндской губернии в эстонской семье сельского учителя и псаломщика. В 1888 г. А. В. Пакляр окончил Рижское духовное училище по 1-му разряду, в 1894 г. — Рижскую духовную семинарию по 1-му разряду; 11 марта 1894 г. был посвящен архиепископом Рижским и Митавским Арсением (Брянцевым) в стихарь (Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 1995. № 14. С. 99).
После окончания семинарии Александр Пакляр проходил служение в храмах Лифляндии. С 6 октября 1894 г. он служил псаломщиком Екатерининской Суйслен-ской церкви Феллинского уезда Лифляндской губернии, 26 января 1897 г. архиеп. Арсением был рукоположен во диакона, а 2 февраля — во иерея к Лаймъяльской церкви Эзельского уезда, с 6 марта 1898 г. служил в Лайксарской церкви Перновского уезда и был заведующим всех школ прихода, а с 14 марта 1900 г. — в Свято-Троицкой По-дисской церкви того же уезда с заведованием несколькими приходскими школами. С 25 августа 1900 г.о. Александр состоял членом поземельной комиссии II Перновско-го округа (ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 725. Л. 1–2; Ф. 156. Оп. 1. Д. 2. Л. 29 об.).
В 1903 г. в Петербурге был заложен большой четырехпрестольный храм для русско-эстонского прихода Санкт-Петербурга. Его настоятель, свящ. Павел Кульбуш, в 1900 г. ставший также главой вновь учрежденного благочиния русско-эстонских приходов Санкт-Петербургской епархии, нуждался в священнике для окормления эстоноязычных прихожан. На месте строительства летом 1903 г. был возведен временный деревянный храм и, по прошению о. Павла, 18 сентября 1904 г. была открыта вакансия второго священника прихода. 7 декабря 1904 г. вторым священником в русско-эстонский приход был назначен свящ. Александр Пакляр. Поскольку храм еще только строился, он вошел в состав строительной комиссии при постройке храма в честь сщмч. Исидора Юрьевского при Православном русско-эстонском братстве (см. подр.: [Костромин, 2018а; Костромин, 2018б]).
Когда храм был построен, о. Александр с семьей (супругой, двумя дочерями и сыном, вскоре скончавшимся в младенчестве) поселился в доме причта на Екате-рингофском пр., д. 24. Деятельность строительной комиссии не прекратилась после окончания строительства, поскольку у храма остались большие долги, и свящ. Александру Пакляру приходилось отчитываться о деятельности комиссии и даже выполнять обязанности делопроизводителя (ЦГИА СПб. Ф. 225. Оп. 1. Д. 241. Л. 4; Ф. 156. Оп. 1. Д. 1. Л. 66 об. — 67).
В июне-июле 1909, в 1911–1912 (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 103. Д. 74. Л. 79–79 об., 83, 144) и мае-июне 1914 гг. о. Александр временно исполнял обязанности благочинного эстонских приходов Петербургской епархии, в 1911–1912 гг., по причине тяжелой болезни настоятеля Исидоровского храма и благочинного прот. Павла Кульбуша, также был исполняющим обязанности настоятеля. Кроме того, о. Александр в августе 1905 г. являлся секретарем съезда духовенства и учителей эстонских приходов Санкт-Петербургской епархии, совершал молитвословия и вел беседы в полицейских и арестных домах столицы (см.: [Сорокин, 2007, 197, 345–349, 641]).
Священник Александр Пакляр оказался очень успешным и активным педагогом. С 1906 по 1911 гг. он был заместителем законоучителя в начальном училище и законоучителем 1-го Нарвского городского женского училища, с 14 ноября 1909 г. — также законоучителем образцового детского приюта барона Штиглица и частной женской гимназии Н.Г. Прохоровой, с 1912 г. — частной женской гимназии З.А. Родионовой. Оценка его деятельности директором детского приюта барона Штиглица была очень высокой (ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 2721. Л. 4).
За свою ревностную службу в дореволюционные годы пастырь регулярно награждался. 18 июня 1902 г. он был удостоен «архипастырского благословения и благодарности за труды по безмездной подаче медицинской помощи крестьянам
Подисского прихода». 12 мая 1901 г.о. Александр награжден правом ношения набедренника, 13 апреля 1905 г. — правом ношения скуфьи «за примерно-усердную пастырскую службу», 28 августа 1908 г. — правом ношения камилавки за труды по постройке в столице каменного эстонского храма, 6 мая 1912 г. — правом ношения наперсного креста, 6 мая 1915 г. награжден орденом Св. Анны 3-й степени (ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 725. Л. 1–2).
Революционный 1917-й год произвел в жизни священника существенные перемены. При избрании делегатов на Всероссийский Поместный Собор в 1917 г. один голос был подан за о. Александра Пакляра (ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 472. Л. 371). С 1 июня 1917 г. и до окончания его деятельности он был членом Епархиального миссионерского совета, летом поступил в Петроградскую духовную академию и учился там до ее закрытия осенью 1918 г., окончил два курса Петроградского университета. 3 января 1918 г. о. Александр стал настоятелем Свято-Исидоровского храма вместо уехавшего в Эстонию бывшего настоятеля прот. Павла Кульбуша, постригшегося в монашество с именем Платон и возведенного в сан епископа Ревельского. К этому моменту он уже около месяца исполнял обязанности настоятеля и благочинного эстонских приходов Петроградской епархии.
10 декабря 1917 г., через полторы недели после отъезда из Петрограда о. Павла, на собрании прихожан свящ. Александр Пакляр был избран настоятелем. В протоколе сказано, что он «заслужил среди русских богомольцев большую любовь и уважение, как истинный пастырь и молитвенник», в то время как «богомольцы из эстонцев, как будто бы, не сходятся с пожеланиями русских богомольцев… и выдвигают с своей стороны кандидатом на пост настоятеля священника из эстонской православной церкви в гор. Кронштадте о. Николая1, оставляя таким образом свящ. о. А. Пакляр и диакона о. Карпа Эльб в прежнем их положении». Русская часть прихода командировала делегацию к эстонской с предложением принять их вариант, тем более что все предлагаемые кандидатуры из числа эстонцев. Вопрос был урегулирован, однако имел последствия (ЦГИА СПб. Ф. 156. Оп. 2. Д. 3. Л. 103–104 об.).
28 января 1918 г. в Свято-Исидоровском храме состоялось собрание духовенства и представителей от прихожан благочиния русско-эстонских церквей для избрания благочинного. Благочинным единогласно был избран свящ. Александр Пакляр. 8 февраля он был утвержден в должности митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином (Казанским) (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 120. Д. 619. Л. 1–2), однако благочиние де-факто перестало существовать после издания декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».
Разделение прихода на русскую и эстонскую части при избрании настоятеля не прошло бесследно. Весной-летом 1918 г. при активном участии о. Александра в храме начались попытки разделить приход на русский и эстонский по отдельности, было даже составлено «Положение о русском приходе при Эстонской Исидоровской церкви в Петрограде в условиях взаимоотношений с эстонским приходом». В письме митр. Вениамину свящ. Александр Пакляр инициативу по разделению прихода приписал эстонской стороне: «Казалось-бы, что проще всего было слиться во единый приход и русским, и эстонцам, но появились со стороны эстонцев некоторые возражения против такого решения вопроса. Имея в виду малочисленность сравнительно с русскими, сознавая недостаточность в своей среде лиц, которые могли бы стать наряду с такими же из русских, опасаясь поэтому, что приход станет русским по преимуществу, представители эстонского прихода решительно отказались от полного слияния с русскими». Однако митр. Вениамин хорошо знал священника по Русско-эстонскому Свято-Исидоровскому братству, в котором ему несколько лет пришлось быть председателем, и Петроградский епархиальный совет отказал в этом ходатайстве (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 120. Д. 601. Л. 2–8).
В 1920г.о. Александр Пакляр был возведен в сан протоиерея. Он не эмигрировал в Эстонию, оставшись со своей паствой, и с 1921 г. также преподавал Священное
Писание Нового Завета на богословских курсах при Исидоровской церкви. Пастырь был духовником руководителей общества «Воскресение» философа Александра Мейера и будущего митрополита Иоанна (Вендланда) (см. об этом: [Чуков, 1995, 611]).
-
4 августа 1923 г.о. Александр в первый раз «в административном порядке» подвергся аресту ГПУ, но через несколько дней был освобожден без вынесения приговора (ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 261. Л. 51, 105, 110). В апреле 1924 г. протоиерей занял пост заведующего Богословско-пастырского училища. На заседании Педагогического совета от 15 апреля было заслушано сообщение И. П. Щербова о передаче им новому заведующему всего делопроизводства, журналов совета, описи имущества и ключей от библиотеки (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 75. Л. 38–38 об.).
На заседании Педагогического совета от 2 января 1925 г. прот. Александр Пакляр был вновь единогласно выбран заведующим училищем. 22 сентября 1925 г. состоявшееся в связи с началом нового учебного года собрание Педагогического совета поручило ему ведение библейского кружка (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 75. Л. 116).
-
27 ноября 1925 г. пастырь вновь оказался арестован по обвинению в «пособничестве прибывшим нелегальным путем из-за границы шпионам» и заключен в Доме предварительного заключения (ДПЗ). В ходе обыска в его квартире по адресу: Екатерингофский пр., д. 24, кв. 2, была конфискована переписка. На первом допросе 29 ноября о. Александр показал, что у него бывали только легальные приезжие из Эстонии, но ничего подробно об этих визитах не сказал (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. 14131. Л. 255–257).
-
2 декабря пастырь написал заявление о разрешении пользоваться Библией из библиотеки ДПЗ, выписке в камеру газет и разрешении свиданий с родственниками. 21 декабря приходской совет Исидоровской церкви принял решение обратиться к советским властям с ходатайством об освобождении настоятеля на поруки. В тот же день приходской совет отправил соответствующее письмо в губернское ГПУ, отметив, что члены его знают о. А. Пакляра «как вполне лояльного и преданного исключительно церковному делу». При этом прихожане писали, что в церкви было только два священника, которые могут совершать литургию на эстонском языке, и один оставшийся иерей не справляется (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. 14131. Л. 264–265).
Вскоре было составлено обвинительное заключение на 11 человек, в котором говорилось, что 20 ноября в пограничной зоне был задержан А. И. Тассо, нелегально перешедший советско-эстонскую границу 15 ноября вместе с Г. И. Энтсоном. Оба они посетили квартиру знавшего Георгия Энтсона с детства А. Пакляра, переночевали и временно оставили у него принесенные для продажи вещи. «Гости» якобы сказали протоиерею, что приехали в Ленинград с коммерческими целями, имея легальные документы. Однако о. Александр был обвинен в «укрывательстве шпионов Тассо и Энт-сона и недонесении о них, зная о странном их появлении в Ленинграде» (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. 14131. Л. 274, 284).
На допросе 28 января 1926 г. пастырь отверг предъявленные ему обвинения и заявил о своей невиновности. 1 февраля приходской совет Исидоровской церкви отправил в ГПУ второе ходатайство об освобождении настоятеля на поруки. На этот раз последовала резолюция: «Можно освободить». 5 февраля следователь Военного трибунала Ленинградского военного округа постановил освободить о. Александра, признав предоставленные властям поручения достаточными. 6 февраля пастыря освободили на поруки прихожан до суда, под подписку о невыезде, а 14 мая 1926 г. трибунал Ленинградского военного округа приговорил протоиерея к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года (ЦГА СПб. Ф. 4914. Оп. 3. Д. 8, 9; АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. 14131. Л. 248–555). По этому делу протоиерея реабилитировали 2 ноября 2004 г., при этом отмечалось, что расстрелянные Тассо и Энтсон занимались нелегальной контрабандой, а не шпионажем.
-
26 мая 1926 г. Педагогический совет Богословско-пастырского училища заслушал заявление о. Александра с отказом от должности заведующего и чтения лекций по Священному Писанию Нового Завета, так как, по требованию властей, он после
вынесения ему обвинительного приговора больше не мог занимать прежнюю должность и вообще преподавать (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 75. Л. 147). 23 июня 1926 г. Педагогический совет выразил благодарность прот. Александру за понесенные труды и просил его принять на себя обязанности заведующего хозяйством и казначея, что о. Александр и делал до закрытия училища в августе 1928 г.
-
25 февраля 1935 г. Свято-Исидоровская церковь была закрыта, и 6 марта о. Александра перевели в Николо-Богоявленский собор, а после ареста 21 марта прот. Михаила Смирнова назначили настоятелем храма. На этом посту о. Александр прослужил около полутора лет. В это время он проживал в Ленинграде по адресу: наб. канала Грибоедова, д. 135, кв. 3. 14 ноября 1936 г. пастырь был назначен настоятелем ленинградской церкви св. Иоанна Предтечи, периодически он служил и в русско-эстонской Успенской церкви в г. Красногвардейске (Гатчина).
-
11 августа 1937 г.о. Александр был арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». На момент ареста в 1937 г. он проживал в Ленинграде по адресу: Екате-рингофский (Римского-Корсакова) пр., д. 24, кв. 2, вместе с женой и дочерью Людмилой (вторая дочь Нина Удаленкова жила вместе с мужем). Обыск ничего не дал следствию, хотя были изъяты переписка, книги Русско-эстонского братства и фотографии.
На первом допросе 21 августа протоиерей сообщил, что в Эстонии проживают его мать — Анна Ивановна Пакляр, и сестра — Елизавета Антсон (жена местного священника), с которой он переписывался до 1929 г. Отец Александр также рассказал, что в ноябре 1920 г. он официально ездил в Эстонию, где прожил пять недель. Во время этой поездки его товарищ по духовной семинарии свящ. Николай Пяст предложил протоиерею остаться в Эстонии и служить в Таллине или Дерпте, но тот «не согласился, так как не хотел оставлять своих прихожан в России без пастыря». Жена о. Александра в октябре 1925 г. ездила на два месяца в Эстонию к своей матери, и тогда он последний раз посетил эстонское консульство для получения визы жене. Сообщив биографические сведения, протоиерей сказал, что после 1925 г. никто из Эстонии к нему не приезжал, и категорически отрицал свою контрреволюционную агитацию среди прихожан и молодежи (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 18–19).
Фактически ничего не дал следствию и второй допрос 4 сентября. Отец Александр лишь рассказал, что эстонский министр иностранных дел и посланник в СССР (в 1923–1926 гг.) А. Бирк ранее был его учеником, и они встречались до 1926 г. Однако в конце допроса протоиерей заявил: «Категорически возражаю… я в своих проповедях никакой контрреволюционной пропаганды не вел» (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 20–21).
Не добившись «признания», органы следствия привлекли несколько связанных с НКВД «свидетелей», которые дали показания против пастыря. Так, прот. Павел Тарасов 8 сентября заявил: «Я знаю священника Пакляр с 1926 г. и могу охарактеризовать его как ярко выраженного врага Советской власти и махрового контрреволюционера, своими прочувственными со слезой проповедями в церкви влияет разлагающе на прихожан, среди которых не мало молодежи… Если бы церковь посещалась только уже отжившим старьем, то было бы еще полдела, но церковь Иоанна Предтечи не мало посещается и молодежью, и на нее то и устремилась вся его контрреволюционная агитация. В бытность свою еще настоятелем Никольского собора он старался около себя, главным образом в алтаре, иметь молодежь, при всяком удобном случае он по одиночке имел с ними беседы, частично молодежь он привел из Эстонской церкви, а также сумел увести за собой, уходя с Никольского собора, и, перейдя в церковь Иоанна Предтечи, где также окружал себя молодежью до последних дней» (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 10–11).
-
14 сентября другой свидетель, Кирилл Константинович Иванов, показал: «За время знакомства с ним [с 1921 г.] я определил, что он является ярко выраженным врагом Советской власти. Имея большие связи в кругу правительства Эстонии, он в свое время был тесно связан с посланником и консулом Эстонского государства… Обладая
ораторскими способностями и умением прочувственно со слезой произносить свои проповеди прихожанам, Пакляр пользуется большой популярностью. За последние годы, сменив три церкви, он сумел за собой перевести всех своих прихожан, хотя территориально это было прихожанам не выгодно, так как церкви были в разных частях города» (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 12–13).
-
19 сентября органы следствия заслушали показания еще одного свидетеля — свящ. Николая Ильяшенко: «Священник Иоанно-Предтеченской церкви Пакляр Александр систематически за период работы в церквах при Советской власти занимается контрреволюционной деятельностью, свою гнусную контрреволюционную агитацию он проводит через проповеди своим прихожанам, а также путем индивидуальной обработки в контрреволюционном духе — на квартирах при исполнении своих священнических обрядов». По словам этого свидетеля, о. Александру в «обработке молодежи» помогали секретарь двадцатки А. А. Колчина, ее члены А. Я. Устинова, А. В. Коренева и П. О. Семенов. Они также вместе с настоятелем помогали деньгами репрессированному духовенству (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 15–16).
-
19 сентября показания дал последний свидетель, Лев Николаевич Парийский: «Знаю Пакляра Александра, который служит священником церкви Иоанна Предтечи с 1930 г. как ярого контрреволюционера. Пакляр, пользуясь своим священническим саном, занимается систематической контрреволюционной агитацией, свою гнусную подрывную работу он ведет через проповеди в церквах и путем индивидуальной обработки граждан в Ленинграде». В качестве «сообщников» протоиерея Парийский назвал тех же четырех членов двадцатки (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 17).
В тот же день состоялся третий допрос о. Александра, который на уточняющие вопросы назвал несколько своих обычных знакомых — 10 священников и прихожан, в том числе священномученика о. Карпа Эльба, с которым жил в одном доме и часто обменивался дружескими визитами. Следователь зачитал показания арестованного в Горьковской области свящ. Владимира Каменского, который якобы являлся эстонским шпионом и отправлял свои донесения через о. А. Пакляра в Эстонию. Однако пастырь категорически отверг эти обвинения (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 22–23).
На четвертом допросе 24 сентября следователь добивался от о. Александра показаний в отношении арестованного председателя приходского совета Николо-Богоявленского собора Г. Б. Петкевича, однако успеха не имел. Протоиерей заявил, что познакомился с Петкевичем в 1935 г., но был связан с ним исключительно по церковным делам, отметив: «Никаких политических разговоров мы никогда не вели». Отец Александр также категорически отрицал утверждение следователей, что он является «резидентом эстонской разведки в Ленинграде и имеет в СССР развернутую сеть завербованных им шпионов» (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 24).
Проявив удивительную стойкость, пастырь выдержал еще три допроса — 2 октября, заявив: «Шпионскую работу в пользу Эстонии не проводил»; 3 октября, когда высказал отрицание антисоветской агитации в своих проповедях; и 10 октября, отметив: «Я не состоял на службе в эстонской разведке» (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 25–27).
Только на восьмом допросе 24 ноября о. Александр признался в том, что вел контрреволюционные проповеди и беседы, но по-прежнему отрицал какую-либо контрреволюционную деятельность, а также шпионаж в пользу Эстонии, заявив: «Я имел ввиду создать группу лиц искренне мне преданных и враждебных советской власти, но контрреволюционную организацию как таковую я не создавал» (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 28-29). Еще два допроса — 28-го и утром 30 ноября — пастырь выдерживал давление следователей и отрицал свою шпионскую деятельность.
Лишь на одиннадцатом допросе днем и вечером 30 ноября, возможно, после пыток, о. Александр согласился с утверждением, что он «с 1920 г. ведет шпионскую работу», но, не желая никого подвести, заявил, что кроме уже признавшего свою «вину» свящ. Владимира Каменского, «никто в шпионской работе ему не помогал». Протоиерея в этот день допрашивали, сменяя друг друга, три следователя — рассчитанный на изматывание своеобразный «конвейер», который позволил им добиться цели (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 35–36).
На следующих двух допросах — 1 и 2 декабря — отец Александр назвал четырех прихожан, с помощью которых якобы собирал шпионские сведения: бывшего казначея Николо-Богоявленского собора А. Ф. Петерсона, Колчина и др. 3 декабря состоялся последний, четырнадцатый допрос пастыря, который нашел в себе мужество отказаться от признательных показаний в шпионской работе, «как данных ложно». Отец Александр отрицал, что был резидентом эстонской разведки, но заявил, что до сер. 1920-х гг. предоставлял эстонскому консульству информацию о положении в СССР, перестав давать ее в 1926 г. (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 42–44).
Скорее всего, протоиерей хотел избежать расстрела после отрицания прошлых признательных показаний, поэтому и признал информационную деятельность в пользу Эстонии до 1926 г., указав, что советская власть тогда (во время первого приговора) отнеслась к нему милостиво и дала условный срок. Следует упомянуть, что о. Александр подписал последний допрос нечетким почерком, явно измученной после допросов и пыток рукой.
Поняв провал своих усилий, следователи допросов больше не проводили. 25 декабря было составлено обвинительное заключение, и в тот же день протоиерей оказался приговорен Особой тройкой Управления НКВД по Ленинградской области к высшей мере наказания. Отец Александр обвинялся «в том, что, являясь враждебно настроенным по отношению к Советской власти и ВКП(б), систематически вел среди населения контрреволюционную агитацию, как во время службы в церкви, а также и при исполнении религиозных обрядов на частных квартирах. В период с 1920 по 1926 гг. занимался шпионской деятельностью против СССР в пользу Эстонии, имел связи с Эстонским консульством в Ленинграде и, в частности, с представителями Эстонской оптационной комиссии и бывшим консулом Эстонии Томбергом, передавал шпионские сведения о политическом и экономическом состоянии СССР и о политике коммунистов среди эстонского населения». 2 января 1938 г. пастырь был расстрелян и похоронен на Левашовской пустоши (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-77290. Л. 47–48).
Так погиб замечательный православный пастырь, который очень много сделал для развития русско-эстонской церковной жизни в Санкт-Петербурге. Его активная деятельность вызвала негативное отношение и опасения антирелигиозно настроенных советских властей. В результате последовали репрессии. Отец Александр Пакляр трижды подвергался арестам и, насколько это было ему возможно, мужественно вел себя на допросах. Однако в конце концов протоиерей был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. Память о нем продолжает жить в сердцах прихожан и священнослужителей Исидоровской церкви.
Список литературы Последний настоятель русско-эстонской церкви в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Пакляр
- АУФСБ СПб ЛО - Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ф. арх.-след. дел. Д. 14131; Д. П-77290.
- ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 472.
- Костромин (2018а) - Костромин К., прот. Братство при приходе или приход при братстве? К истории русско-эстонского Православного братства во имя священномученика Исидора Юрьевского в Петербурге // Свет Христов просвещает всех. Альманах Свято-Филаретовского института. Вып. 27. Лето 2018. М., 2018. С. 65-79.
- Костромин (2018б) - Костромин К., прот. «Постройка храма грозит стать предметом столичного скандала…». К истории Православного русско-эстонского братства во имя священномученика Исидора Юрьевского // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. № 2. С. 38-52.
- Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 1995. № 14. С. 99.
- Сорокин (2007) - Сорокин В., прот. Исповедник. СПб., 2007.
- Чуков (1995) - Чуков Н., прот. Один год моей жизни. Страницы из дневника / Публ. В. В. Антонова // Минувшее. Т. 15. СПб., 1995. С. 567-625.
- ЦГА СПб - Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 75; Ф. 4914. Оп. 3. Д. 8, 9; Ф. 7384. Оп. 33. Д. 261.
- ЦГИА СПб - Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 19. Оп. 103. Д. 74; Оп. 120. Д. 601; Д. 619; Ф. 156. Оп. 1. Д. 1; Д. 2; Оп. 2. Д. 3; Ф. 225. Оп. 1. Д. 241; Ф. 277. Оп. 1. Д. 725; Ф. 411. Оп. 3. Д. 2721.