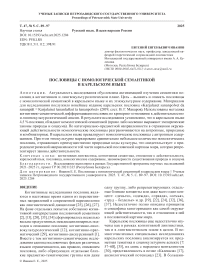Пословицы с номологической семантикой в карельском языке
Автор: Иванов Е.Е.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Разноаспектный анализ паремиологических единиц языков народов России
Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования обусловлена активизацией изучения семантики пословиц в когнитивном и лингвокультурологическом плане. Цель – выявить и описать пословицы с номологической семантикой в карельском языке и их этнокультурное содержание. Материалом для исследования послужило новейшее издание карельских пословиц «Karjalazet sananpolvet da sananpiät = Karjalaiset šananlaškut ta šananpolvet» (2019; сост. В. Г. Макаров). Использованы методика когнитивно-семантической дифференциации пословиц по критерию «отношение к действительности» и лингвокультурологический анализ. В результате исследования установлено, что в карельском языке 4,5 % пословиц обладают номологической семантикой (прямо либо косвенно выражают эмпирические законы природы и социума). По категориально-предметной направленности в отражении окружающей действительности номологические пословицы разграничиваются на антропные, природные и комбинаторные. В карельском языке превалируют номологические пословицы с антропным содержанием. При этом этнокультурно маркировано сравнительно небольшое количество номологических пословиц, отражающих преимущественно природные коды культуры, что свидетельствует о природоцентрической направленности той части карельской пословичной картины мира, которая репрезентирует законы действительности.
Когнитивная лингвистика, когнитивная семантика, отношение к действительности, карельский язык, пословица, номологическое содержание, закономерности существования природы и социума
Короткий адрес: https://sciup.org/147250800
IDR: 147250800 | УДК: 811.511.112; 398.91 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1204
Текст научной статьи Пословицы с номологической семантикой в карельском языке
Когнитивные исследования пословиц являются в настоящее время одним из перспективных направлений в современной паремиологии как лингвистической дисциплине [25], [26], [27]. На фоне отдельных попыток собственно когнитивной интерпретации пословичной семантики [2], [13], [20], [33], [34] сформировалось несколько весьма продуктивных междисциплинарных подходов к описанию пословиц: когнитивно-лингвокультурологический [12], когнитивно-прагматический [29], когнитивно-дискурсивный [1]. Вместе с тем когнитивно-семантические исследования единиц пословичных фондов различных языков ограничиваются, как правило, описанием пословиц, либо образующих отдельные близкие предметно-тематические группы или даже
одну группу, либо репрезентирующих отдельные близкие концепты или даже всего один концепт: «деньги», «одежда», «правда», «семья», «труд – безделье» и др. [19], [22], [24], [32], [36], [37]. Недостаточно полно описаны принципы и специфика категоризации как самой окружающей действительности, так и отношения к ней в пословичной картине мира.
Карельские пословицы еще недостаточно изучены как в рамках когнитивной лингвистики, так и в лингвистическом плане в целом. В немногочисленных специальных исследованиях карельских пословиц анализируется их предметная тематика в социокультурном аспекте [7: 57–68], [35], их связь с народным менталитетом [30], представленность в поэме «Калевала» [17], аксиологический потенциал [23]. В большин- стве работ карельские пословицы привлекаются и рассматриваются в кругу иных устойчивых единиц и малых текстовых форм при исследовании лексической подсистемы карельского языка [14], [15], [16], [21] и языка карельской литературы [28], а также при сопоставительном и типологическом анализе пословиц финно-угорских языков на широком языковом фоне [3], [4], [5], [6]. В этой связи представляется актуальным изучение когнитивной семантики карельских пословиц, что создаст предпосылки для определения основных компонентов и структуры карельской пословичной картины мира, описания особенностей категоризации окружающей действительности и ее репрезентации в карельских пословицах.
Цель исследования – выявить и описать номо-логические пословицы как один из когнитивносемантических типов провербиальных единиц (по критерию «отношение содержания пословиц к внеязыковой действительности») в карельском языке, а также определить их этнокультурный потенциал.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили пословицы на ливвиковском и собственно карельском наречиях карельского языка (всего около 2000 единиц), вошедшие в новейшее паремио-графическое издание «Karjalazet sananpolvet da sananpiät = Karjalaiset šananlaškut ta šananpolvet» (2019) В. Г. Макарова1, которое представляет собой доработанное переиздание сборников карельских пословиц и поговорок, составленных Г. Н. Макаровым в 1959 и 1969 годах. Из данного сборника методом сплошной выборки была отобрана 91 пословица с номологической семантикой (включая те единицы, в которых номологи-ческой является только одна из их структурных частей).
Методологической основой исследования является методика категоризации пословичной семантики по критерию «отношение к действительности», основанная на выделении в рамках универсального обобщения типичных ситуаций четырех наиболее значимых подходов к восприятию и осмыслению окружающего мира: эмпирического, аксиологического, онтологического, логического [9]. При этом отношение содержания пословиц как фольклорных текстов и как языковых знаков к действительности не только ограничено данными четырьмя подходами, но и строго типологически дифференцировано. Все пословицы разграничиваются на ряд дихотомически противопоставленных когнитив- но-семантических типов: не противоречащие действительности (номологические vs. не номо-логические ← трюистические vs. не трюистические ← грегерические vs. сентенциональные) и противоречащие действительности (абсурдные vs. парадоксальные ← ситуативные парадоксы vs. не ситуативные парадоксы ← логические парадоксы vs. семантические парадоксы) [9: 1159]. Данная методика и полученная в результате ее использования когнитивно-семантическая типология пословиц ранее были верифицированы на материале различных языков разных языковых семей: английском, белорусском, русском и польском [31], тувинском [8], [11] и калмыцком [10].
Для определения этнокультурного потенциала номологических пословиц использован лингвокультурологический анализ с обращением к широкому кругу фактов из истории, природных условий жизни и духовной культуры карельского народа.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование показало, что общая когнитивно-семантическая типология пословиц по их отношению к действительности приобретает в национальном пословичном фонде специфические черты не только в квантитативном плане (по количественному распределения типов), но и в квалитативном аспекте (по корреляции каждого типа с особенностями данной этно- и лингвокультуры в репрезентации реалий материальной и духовной культуры и в категоризации внеязыковой действительности).
В карельском языке зафиксированы все основные когнитивно-семантические типы пословиц (номологические, трюистические, грегерические, абсурдные, парадоксальные и сентенциональ-ные), которые характеризуются различной количественной представленностью, в разной степени этнолингвокультурно маркированы, а также неодинаково распределены в категориально-предметной репрезентации окружающего мира.
В рамках эмпирического подхода к дифференциации отношений пословиц к действительности выделяется когнитивно-семантический тип провербиальных единиц – номологические пословицы, которые противопоставлены всем остальным единицам провербиального фонда по своей роли в пословичной категоризации окружающего мира, в рамках которой они репрезентируют абсолютно самодостаточные, независимые от воли и желания человека, надежно верифи- цируемые истины. Номологические пословицы представляют собой наиболее значимый в плане соотношения с действительностью когнитивно-семантический тип, поскольку выражают такие типичные ситуации действительности, которые имеют силу законов (от греч. nomos ‘закон’). Выражаемые в пословицах законы являются в подавляющем большинстве эмпирическими, не выходят в своем проявлении за рамки окружающей человека действительности и верифицируются в пределах человеческого опыта в познании устройства природы и социума. Формальным признаком номологических пословиц выступает невозможность их контрарного перефразирования без утраты пословичным суждением качества истинного (предполагается, что противоположное по содержанию суждение, полученное посредством отрицания номологической пословицы, будет ложным), например:
Elävy einehettäh ei elä ‘Живой без пищи не живет’ (KSS: 51)2; Gluhoi gromud ei varaida ‘Глухой грома не боится’ (KSS: 15); Kuuzeh juablokkua ei kazva ‘На ели яблоки не растут’ (KSS: 204); Magavotta ei šua olla ‘Без сна не проживешь’ (KSS: 96), где контрарные преобразования пословичных суждений содержательно будут противоречить действительности.
Пословицы с номологической семантикой составляют около 4,5 % от общего количества проанализированных единиц карельского пословичного фонда (то есть примерно в каждой двадцатой карельской пословице выражается какой-либо закон природы или социальной действительности). Такой показатель является средним по сравнению с пословичными фондами других языков, где количество номологиче-ских пословиц, как правило, не превышает 10 % (из исследованных языков наиболее высокие показатели зафиксированы в калмыцком – 9,3 % [10: 217] и в тувинском – 9,5 % [11: 322]).
Категориально-предметная соотнесенность номологических пословиц (в прямых значениях) репрезентирует специфическую избирательность карельской пословичной картины мира в отражении окружающей действительности. Так, среди номологических карельских пословиц превалируют единицы с антропным содержанием, в которых отражаются существенные, необходимые и регулярные (закономерные) явления, условия, факторы человеческой жизни в ее различных сферах и проявлениях (молодости и старости, учения и мастерства, эмоций и действий человека в разных обстоятельствах и др.), например:
Nuordu aigua ni hevol et tabua ‘Молодые годы и на тройке не догонишь’ (KSS: 47); Niken ei muamal vacas opastu, jogahiine ilmal opastuu ‘Никто в утробе матери не учится, все учатся после рождения’ (KSS: 78); Niken eu šeppä šyndymiä ‘Кузнецом никто не рождается’ (KSS: 89); Kondiedu vihal meccah et tapa ‘Одной ненавистью медведя в лесу не убьешь’ (KSS: 180); Ocalla hamarua et halgua ‘Лбом обуха не расколешь’ (KSS: 229).
При этом значительная часть антропных но-мологических пословиц (каждая шестая) посвящена репрезентации одного концепта – смерти человека (в том числе в проекции на социальное неравенство), например:
Ei ole rodiemattomua, ei ole kuolemattomua ‘Всё рождается, всё умирает’ (KSS: 50); I dohtarit kuollah, cuarit kahta igiä ei eletä ‘Даже доктора умирают, и цари двух жизней не живут’ (KSS: 53); Surma yhen kerran tulou ‘Смерть лишь однажды приходит’ (KSS: 57); Šurmašta pagoh et piäže ‘От смерти бегством не избавишься’ (KSS: 57).
Треть номологических пословиц в карельском языке отражает закономерные явления живой и неживой природы, освоение и усвоение человеком законов природного мира, например: Juurettah ni kargei heinäine ei kazva ‘Без корней даже горькая трава не растет’ (KSS: 30) или Juuretta i kargie heinä ei kažva ‘Без корня и горькая трава не растет’ (KSS: 30) – закон о морфологии растений; Siga sobolii ei sua, kaži kuniccua ‘Не родить свинье соболя, а кошке куницы’ (KSS: 187) – закон о видовом разнообразии животных; Kunne tuuli, šinne i tuli ‘Куда ветер, туда и пламя’ (KSS: 199) – закон о взаимодействии физических явлений; Lymmytä raudua, kuni on kuuma ‘Гни железо, пока горячо’ (KSS: 222) – закон о плавкости металлов; Missä tuli, šielä i šavu ‘Где огонь, там и дым’ (KSS: 205) или Tuletta šavu ei nouže ‘Нет дыма без огня’ (KSS: 208) – закон о выделении вещества при горении.
Особое внимание заслуживает группа номо-логических пословиц, в которых отражаются основные законы мироздания (нередко на примере повседневных явлений, в которых эти законы проявляются), например: Tyhjaštä on paha nyhätä ‘Из ничего ничего не выдернешь’ (KSS: 209) – закон о причинно-следственной взаимосвязи всего в мире; Tyhjä ei ni piipušša pala ‘Ничто даже в трубке не горит’ (KSS: 209) – закон о физической пустоте; Olis algu, loppu lienöy ‘Было бы начало, а конец будет’ (KSS: 206), Tulou piä pitälläki ‘Будет конец и длинному’ (KSS: 209) – закон о линейном объеме физических тел в пространстве; Huomenine päivy on ainos ielleh ‘Завтрашний день всегда впереди’ (KSS: 135) – закон о линейном характере физического времени.
Номологическая семантика может быть выражена в пословице не только непосредственно, но и косвенно, при помощи описания невозможного явления, нереального обстоятельства, несуществующей ситуации, неосуществимого намерения и т. п. – всего того, что противоречит действующим законам природы или социума. Косвенное выражение номологической семантики в пословицах призвано усилить восприятие непреодолимой силы закона. Например, в пословице «о смерти» Vanhenemizel et piäze, viel viimein kuolet ‘Старостью не отделаешься, умирать все равно придется’ (KSS: 58) обе ее структурные части имеют тождественное значение (выражают закономерность неизбежности физической смерти человека как живого существа), однако в первой части данная закономерность передается описательно, а во второй – прямо и непосредственно (в данном случае вторая часть пословицы как бы поясняет смысл первой). Еще в одной карельской пословице «о смерти» Tulou mieš meren takani, vain ei turpehen alani ‘Кто за морем – вернется, не вернется тот, кто под сырой землей’ (KSS: 58) во второй ее структурной части закономерность наступления смерти выражается при помощи эвфемизма.
Косвенное выражение номологической семантики представлено и в пословице Harvah löydyy hanhen jaiccy voronan pezas ‘Редко найдется гусиное яйцо в вороньем гнезде’ (KSS: 127), которая выражает закон о видовом разнообразии животных, прямо сформулированный в упомянутой выше пословице Siga sobolii ei sua, kazi kuniccua ‘Не родить свинье соболя, а кошке куницы’ (KSS: 187). Маркером косвенного выражения природного закона является временное ограничение его действия, обозначенное в пословице наречием harvah ‘редко’, заменяющим прямое отрицание – ei (löydyy) ‘не (найдется)’.
Весьма показательна в плане косвенного выражения закономерностей неживой природы карельская пословица Harvoin tuuli kivija liikuttelou ‘Редко ветер камни передвигает’ (KSS: 118), где на примере объектов tuuli ‘ветер’ и kivi ‘камень’ показано действие закона о взаимодействии физических веществ различной плотности и массы (без дополнительных физических условий менее плотное вещество с малой массой не способно при контакте с более плотным веществом и большой массой изменить его положение в пространстве), а необходимость проявления данного закона выражается не посредством прямого отрицания воздействия одного физического вещества на другое, а через ситуацию допустимости такого воздействия – harvoin ‘редко’. Симптоматично, что в близкой по форме и смыслу карельской пословице Min tuuli kivellä voipi? ‘Что ветер с камнем поделает?’ (KSS: 120) допустимость воздействия ветра на камень передается уже в форме риторического вопроса.
Следует отметить, что появление в карельских номологических пословицах камней, которые могут двигаться под воздействием на них ветра, не является случайным. В естественных условиях движение камней по наклонной плоскости представляет собой весьма частое явление и является хорошо описанным в геологии процессом «крип» (англ. creep ‘ползти, сползать’), происходящим под воздействием силы тяжести, но иногда требующим дополнительные усилия, которые создаются течением вод или воздушным потоком (ветром). Такие процессы не редкость в Карелии, где природный рельеф представляет собой холмистую равнину, которая изобилует одиночными валунами и скоплениями валунов и мелких камней в форме холмов и гряд. С камнями в Карелии тесно связаны многочисленные культурные артефакты – культовые сооружения, петроглифы и др. [18]. Информация обо всем этом составляет фоновую семантику пословичных изречений о «ветре» и «камне», входящих в относительно небольшое число этнокультурно маркированных карельских номологических пословиц.
Тот факт, что среди карельских пословиц с номологической семантикой не так часто, как можно ожидать, встречаются этнолингво-культурно маркированные единицы, объясняется преимущественно общим характером выражаемых в них закономерностей, отсутствием образных средств и ориентацией на прямую передачу номологического содержания. Это не является специфической чертой карельского пословичного фонда, нейтральные в этно- и лингвокультурном плане номологические пословицы нередко превалируют и в других языках, например в калмыцком [10: 218].
К немногочисленным этнокультурно маркированным карельским пословицам с номоло-гической семантикой относятся прежде всего единицы, в которых отражены природные коды культуры, напр.: Kuuzeh juablokkua ei kazva ‘На ели яблоки не растут’ (KSS: 204), где этнолинг-вомаркером является kuuzi ‘ель’ (еловые леса составляют четверть лесных угодий Карелии и во многом состоят из реликтовых деревьев3, ель широко используется в традиционном хозяйстве карелов, а ее образ занимает одно из центральных мест в карельской мифологии и обрядности); Kondiedu vihal meccah et tapa ‘Одной ненавистью медведя в лесу не убьешь’ (KSS: 180), где этнолингвомаркером выступает kondii ‘медведь’ (в традиционных представлениях карелов медведь является священным животным, изображен на гербах исторической и современной Карелии); Tulou mieš meren takani, vain ei turpehen alani ‘Кто за морем – вернется, не вернется тот, кто под сырой землей’ (KSS: 58), где этнолинг-вомаркером является meri ‘море’ (с морем в карельской мифологии связывались огромные богатства, которыми владеет бог и хранитель воды Ахто, о чем повествуется в поэме «Калевала» и карело-финских рунических песнях); Siga sobolii ei sua, kazi kuniccua ‘Не родить свинье соболя, а кошке куницы’ (KSS: 187), где этно-лингвомаркерами выступает kuniccu ‘куница’ (объект традиционного пушного промысла в Карелии, упоминается в числе других животных в поэме «Калевала»).
Антропные коды культуры маркируются в единичных карельских пословицах с номо-логической семантикой, напр.: Niken eu šeppä šyndymiä ‘Кузнецом никто не рождается’ (KSS: 89), где этнолингвомаркером является seppy ‘кузнец’ (искусный кузнец Ильмойллине – одно из трех высших божеств в карельской мифологии, герой поэмы «Калевала»).
В отдельных случаях номологическая семантика может быть присуща только одной структурной части карельской пословицы, напр.: Ruožmee rauvan šyöy, paha mieli – rissittyhengen ‘Ржавчина разъедает железо, тоска – человека’ (KSS: 12), где первая часть выражает закон реакции химических элементов в определенных условиях (в данном случае речь идет о продукте такой реакции – красном оксиде железа), а вторая часть имеет сентенциональную семантику:
«отражения наиболее важных, ценных и необходимых для жизни в обществе мнений о человеке, социуме и окружающей их среде, входящих в систему мировоззренческих, ценностных и воспитательнопедагогических доминант этнической картины мира» [9: 1165].
Еще в одной карельской пословице Ristikanža vedeh läpehtyy, kala kuivalla kuolou ‘Человек в воде захлебывается, рыба на суше засыпает’ (KSS: 12) вторая ее часть является номологиче-ской по своей семантике (выражает закон о границе естественной среды обитания животных), а первая часть обладает трюистической семантикой:
«отражения самоочевидных и неизменных явлений действительности, которые безусловно знакомы каждому человеку в рамках данной этнической и/или социальной группы» [9: 1161].
Структурная часть с номологической семантикой комбинаторно ограничена в карельских пословицах и встречается только в сочетании со структурными частями, содержание которых не противоречит действительности, что еще раз свидетельствует о системном характере категоризации действительности в провербиальной картине мира.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В когнитивно-семантической классификации единиц пословичного фонда карельского языка (по критерию «отношение к действительности») выделяется тип номологических пословиц, в которых выражаются эмпирические законы природы и социума (4,5 % от общего количества проанализированных единиц). Номологическая семантика может выражаться в пословицах как прямо (непосредственное описание типичной ситуации, имеющей силу закона), так и косвенно (описание ситуации, которая на первый взгляд противоречит действующим природным или общественным законам, однако используется в качестве еще одного подтверждения их действия).
По категориально-предметной направленности в отражении окружающей действительности все номологические пословицы (в своем прямом значении) разграничиваются на антропные (о человеке и социальных отношениях), природные (о явлениях живой и неживой природы) и комбинированные (только одна из структурных частей пословицы имеет но-мологическую семантику). При этом превалируют номологические пословицы с антропным содержанием.
Этнолингвокультурная маркированность присуща сравнительно небольшому числу но-мологических пословиц в проанализированном паремиологическом материале. Фоновая семантика таких пословиц отражает прежде всего природные коды культуры и лишь в единичных случаях – антропные коды культуры, что убедительно свидетельствует о преимущественно природоцентричной направленности той части карельской пословичной картины мира, которая репрезентирует законы действительности.