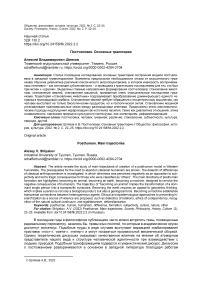Постчеловек. Основные траектории
Автор: Шляков Алексей Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию основных траекторий построения модели постчеловека в западной гуманитаристике. Выявлены предпосылки необходимости отказа от классического гуманизма. Изучена диалектика различий классического антропоцентризма, в которой инаковость воспринималась негативно - как оппозиция субъективности - и приводила к трагическим последствиям для тех, кто был причислен к «другим». Выделены главные направления формирования постчеловека: становление животным, становление землей, становление машиной, призванные снять отрицательные последствия гуманизма. Траектория «становление животным» подразумевает преобразование доминирующего единого человека в трансвидовой симбиоз. Становление землей требует обращения к геоцентричному мышлению, где человек выступает не только биологическим продуктом, но и геологической силой. Становление машиной устанавливает трансверсальные связи между разнородными агентами. Предложены этико-эпистемологические подходы недопущения иерархизации как источника насилия, такие как диалектика отношений, этика созависимости, признание природно-культурного континуума, zoe-эгалитаризм, дефамилиаризация.
Постчеловек, человек, гуманизм, различие, становление, субъектность, культура, природа, другой
Короткий адрес: https://sciup.org/149139673
IDR: 149139673 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2022.2.2
Текст научной статьи Постчеловек. Основные траектории
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия, ,
,
М. Фуко, Д. Батлер (Butler, 2015), Ф. Варела (2001), Н. Винера (2019), Б. Латура (2006), П. Сло-тердайка (2001), Д. Харауэй (2017) и др. В их трудах можно обнаружить два умонастроения: оптимистическое и скептическое (Хабермас, 2002). Скепсис связан с риском утраты Человеком статуса «меры всех вещей», господства в качестве доминирующего представления о центре мироздания и ожидаемыми последствиями в виде моральной и экономической паники (Rose, 2007). Однако часть зарубежных авторов воспринимают постгуманистический вектор в гуманитари-стике, политике и экономике с определенным восхищением.
Предпосылками переосмысления гуманизма послужили последствия антропологического кризиса, сказавшегося на гуманитарных науках, которые отправлены в разряд «неточных»; развитие телетанатологических машин, совершенствующее способы умерщвления человека; экологический кризис; расовая, гендерная, экономическая сегрегация.
Возникшая в Возрождении модель гуманизма превратилась в образ цивилизации, распространившийся на Европу как господствующий. Европа стала не просто политическим пространством, но и «неотъемлемым свойством разума, способным придать собственную оптику любому объекту» (Брайдотти, 2021: 32). Европа стала считать себя матерью разума, способного к транс-ценденции, а гуманизм – своей частью, которая превратилась в универсальную парадигму.
В рамках этой парадигмы двигателем развития универсального гуманизма выступала диалектика «я» – «другой», в которой инаковость воспринималась негативно, как оппозиция субъективности. Различия трактовались как неполноценность или девиация и зачастую натурализовы-вались (отождествление с животным). Это приводило к трагическим последствиям для тех, кто был причислен к «другим». Ограниченность возможности обретения статуса человека в гуманизме является одной из предпосылок обращения к постгуманизму.
Представленный как абстрактный образ, человек в мировоззрении гуманизма обладал вполне конкретными характеристиками: белый европейский гетеросексуальный мужчина. Распространение этого образа на весь человеческий вид недопустимо и эпистемологически, и этически в силу истории фашизма, расизма и колониализма (Ware, 1992). Универсальный образ не вытекал из естественного закона, а был результатом конвенции и задавал нормативность, что формировало практики эксклюзии и дискриминации. Трагические события XX в. привели постструктуралистов к необходимости отказа от идей трансцендентального субъекта (Ж. Делёз), фаллоцентризма (Л. Иригарей), гуманизма (М. Фуко), европоцентризма (Ж. Деррида).
Указанные противоречия гуманистической теории вызвали необходимость разработки иных подходов к человеческой субъективности и месту человека в мире. Эти подходы, которые в целом носят постгуманистический характер, формируются по трем основным направлениям: этическое, научно-техническое в аналитической форме и критическое. Оригинальная версия критического подхода была предложена и Р. Брайдотти. Отправной точкой ее постгуманистической теории является замещение бинарного различия между природой и обществом континуумом природы – культуры, что приводит к трем основным траекториям преобразования структур субъективности: становление животным – становление землей и становление машиной (Брайдотти, 2021: 130).
Траектория «становление животным» подразумевает преобразование доминирующего единого человека в трансвидовой симбиоз. Освобожденный центр должен быть заполнен другими видами. Положение гуманистического человека было привилегированным ввиду присвоения языка, который выступает именно «антропологическим инструментом», и наличия понятия «разумное животное», которое рационально разрабатывает свойства себя и «другого». Из этой иерархии, подчиненной негативной диалектике различия, любые модели телесности, не являющиеся белым, нормальным, здоровым, молодым мужчиной, исключаются. Любые зооморфные организмы занимают либо маргинальное, либо приближенное положение, но все-таки «другого» по отношению к человеку. Животные – это признаваемые «другие». Их отношения с человеком, как считает Р. Брайдотти, обусловлены классическими критериями близости: эдипизацией, функциональностью, фантазмами (страхом).
Эдипиальность отношений исходит из преимущества человека обладать свободным доступом к телу другого и владения им. Ж. Деррида видел в этом «карнофаллогоцентризм», выступающий источником и телесного, и эпистемологического насилия (The Derrida – Habermas Reader, 2006). Его проявления можно обнаружить в различных культурных актах, таких как склонность к метафоризации животных, представляющей их этическим нормативом. Репрезентация включенных в социальную жизнь человека животных была исторически ограничена набором нарративов, в которых, несмотря на близость к человеку, животное все же оставалось радикально другим, выступая природно-культурным конструктом.
Функциональное отношение к животным связано с их участием в рыночной экономике. Они выступают своеобразным пролетариатом, эксплуатируемым людьми. Помимо этого, человек рассматривал животных и как промышленный ресурс (молоко, шерсть, шелк, шкура, кости), и как живой товар. Необходимо также учесть роль животных в научных экспериментах – от космонавтики до косметологии. Постгуманистические отношения предлагают отказаться от диалектики различий в пользу zoe-эгалитарного поворота, предусматривающего равноправные отношения человека и животных и уход от дискриминации к моральному принятию деятельных возможностей тел.
Фантазматическикие отношения возникают при столкновении с образами вымерших или экзотических животных, вызывающих страх. В современном высокотехнологичном мире необходимо признать видовую трансгрессию животных, причем не только на аффективном уровне, но и на биологическом. Когда речь идет о клонированных животных, то происходит уход от гендерных дихотомий к гетерогенным синтезам организма и механизма, биологии и технологии. При их восприятии наблюдается нивелирование линейного времени в пользу темпоральной процессу-альности: уже не-животное, еще не машина, таким образом становящееся вечным развертыванием Эона (прошло-будущего, исключающего событие настоящего) (Делёз, 2011: 86). В таких условиях привилегированность человека крайне сомнительна, ведь человек смертен, а клон не умрет никогда (ибо не рожден). Трансгуманизм предлагает создавать новые правовые репрезентации системы родства, в которых представитель биологического вида не будет рассматриваться с позиции «годности для эксплуатации».
Рассмотрение человека в планетарной оптике требует создания дополнительных критериев, учитывающих экологическую проблему, которая принципиально отличается от других проблем, и потому субъект определяется геоцентрично. Согласно Р. Брайдотти, траектория становления землей должна опираться на ряд противоречивых условий. Сущее, выступающее самоорганизующейся материальностью, должно быть согласовано с расширением поля субъективности постчеловека, являющегося гибридностью с нечеловеческими агентами. Эта идея предусматривает отказ от привилегированности человека, трансцендентальности разума, диалектики признания и допускает имманентность отношений (Брайдотти, 2021: 129). Стирание модернистского различия между культурой и природой, а также изменение статуса технического объекта, который перестает быть «инородным телом», протезом, с необходимостью приводят к геоцентричному мышлению, подразумевающему человека не только биологическим продуктом, но и геологической силой. Существуют теории, рассматривающие землю как целостный организм, однако они продолжают использовать диалектику конструктивизма, противопоставляющую землю – технику – культуру, осуществляя гуманизацию среды, что обусловливает технофобию (Нэсс, Мейляндер, 2013). В постгуманистическом мире любая иерархия мышления должна быть исключена как источник насилия. Для этого при становлении землей предлагается признать нечеловеческое определение жизни как zoe – генеративной силы, витальной энергии. Как пишет Р. Брайдотти, «способом достижения этого будет стратегия дефамилиаризации и отступления от доминирующего образа субъекта» (Брай-дотти, 2021: 171). Данный процесс требует избавления от когнитивных стереотипов, привязанностей к привычному, он связан с обретением номадического импульса, который приведет к взаимодействию со множеством реляционных трансвидовых потоков.
Становление машиной постчеловека вызвано фундаментальными изменениями в отношениях человека и техники, приведшими к трансгрессии органического и технического на структурном и онтологическом уровнях. Возникновение новой политэкономии, связанной с взаимной модификацией человека и машины, порождает новые искушения, обусловленные удвоением нервной системы, ее экстериоризацией в виде электронных сетей. Доминирующей социокультурной формой постмодерна выступает кибернетический организм, что оказывает существенное влияние на изменение субъективности постчеловека и этики. Машинную витальность, которая уводит от состояния к процессу, Ж. Делёз связывает с освобождением тела от вовлечения его в социальное производство, в жесткую иерархическую систему и становлением «телом без органов» (Делёз, Гваттари, 2007). Эта программа ориентирована на осмыслении телесности как элемента природно-культурной целостности в новой политической оптике, оппозиционной капиталистической. Переход к постчеловеческому состоянию подразумевает виртуальную социальную экологию, в которой экология среды, социума и духа будут связаны трансверсальными траекториями. Подобная экология позволит выявить связь между расизмом и экологическими проблемами, гендерной сегрегацией и потреблением (Брайдотти, 2021: 179). На смену признания приходит соза-висимость, а на смену традиционной морали – этика развития.
Ф. Гваттари предлагает снять различие между самоорганизующимися и неустойчивыми, аллопоэтическими системами, он переносит аутопоэтическую субъективацию и на живое, и на техническое. У техники есть своя темпоральность, проявляющаяся через развитие поколениями, собственные формы инаковости и ориентация на метастабильность, которая выступает условием индивидуации (Guattari, 1995). Таким образом техника тоже служит полем постчеловеческого становления.
Образ постчеловека, в каких бы направлениях он ни проявлялся, коррелирует с отказом от диалектики различия, универсальной морали, унитарной субъектности, а также с осознанием природно-культурного континуума, что подразумевает трансверсальные связи между агентами разнородного генезиса. Целью этой модели является недопущение жесткой структурной иерархии, служащей источником насилия и сегрегации.
Список литературы Постчеловек. Основные траектории
- Брайдотти Р. Постчеловек. М., 2021. 404 с.
- Винер Н. Кибернетика и общество. М., 2019. 288 с.
- Делёз Ж. Логика смысла. М., 2011. 472 с.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007. 670 с.
- Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. 238 с.
- Матурана У., Варела Ф. Древо познания: биологические корни человеческого понимания. М., 2001. 224 с.
- Нэсс А., Мейляндер П. Менталитет будущего // Зеленый лист: Карельский экологический журнал. 2013. № 3. С. 36-39.
- Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. 583 с.
- Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: на пути к либеральной евгенике? М., 2002. 144 с.
- Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология, и социалистический феминизм 1980-х. М., 2017. 128 с.
- Butler J. Senses of the subject. N. Y., 2015. 228 p.
- Guattari F. Chaosmosis an Ethico-Aesthetic Paradigm. Sydney, 1995. 142 p.
- Rose N. The Politics of life itself: biomedicine, power, and subjectivity in the twenty-first century. N. Y., 2007. 368 p.
- The Derrida - Habermas reader / ed. by L. Thomassen. Chicago; Edinburgh, 2006. 330 p.
- Ware V. Beyond the Pale: White women, racism and history. L.; N. Y., 1992. 263 p.