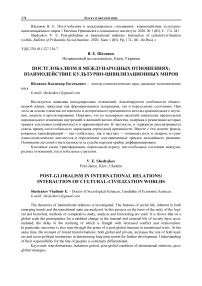Постглобализм в международных отношениях: взаимодействие культурно-цивилизационных миров
Автор: Шедяков В. Е.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 1 (85), 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуется динамика международных отношений. Анализируются особенности общественной жизни, присущие как формирующимся тенденциям, так и переходному состоянию. При этом на основе единства логического и исторического применяются методы сравнительного изучения, анализа и прогнозирования. Показано, что во всемирном масштабе накоплены предпосылки кардинального изменения внутренней и внешней жизни общества, задержка в реализации которых чревата усилением конфликтности и иррационализма. В частности, и терроризм рассматривается сквозь призму постглобального нарастания переходной кризисности. Вместе с тем момент форсированных трансформаций — как глобальных, так и частных — повышает роль и лидеров, и социально-политических институтов в определении долговременных трендов дальнейшего развития. Понимание же своей ответственности за судьбы народов крайне дифференцировано.
Трансформации, переходный период, постглобальное состояние международных отношений, постглобальные стратегии
Короткий адрес: https://sciup.org/14126611
IDR: 14126611 | УДК: 330:101:327.316.7
Текст научной статьи Постглобализм в международных отношениях: взаимодействие культурно-цивилизационных миров
V. E. Shedyakov
Free-lance, Kiev, Ukraine
POST-GLOBALISM IN INTERNATIONAL RELATIONS:INTERACTION OF CULTURAL-CIVILIZATION WORLDS
Shedyakov Vladimir Е. - Doctor of Sociological Sciences, Сandidate of Economic Sciences.
Сам капитализм деградировал и сошел с ума, потому что мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы потом не в состоянии.
Э. Макрон
Очевидно: ойкумена меняется крайне быстро; «стрела истории» летит всё быстрее. Возникает новый геостратегический порядок, формируются новые модели развития. Сегодня, с одной стороны, воспроизводство ойкумены накрепко связало культурноцивилизационные миры, формой чего и стало соотношение конкурентно-сти/состязательности и партнерства/кооперации с той или иной степенью комплементар-ности или же, напротив, враждебности. Переструктурирование обогащается конкретными характеристиками чернового наброска будущего, создания его замысла и выявления намерения, наиболее обостренно проявляясь именно в переходный период [13–17]. Так, время форсированных преобразований концентрирует возможности и угрозы, во многом предопределяя уровень дальнейшей орбиты общества на многие годы, но и само весьма зависимо от поведения акторов. С другой стороны, постглобальное состояние базируется на усилении фрагментаризации (прежде всего регионализации) ойкумены с повышением разнообразия моделей устройства и своеобразия направления поиска роста своей конкурентоспособности. Соответственно, если постглобальность характеризует объективное состояние ойкумены (в частности, международной жизни), то постглобализм — субъективное отражение его, качество осознания и использования, прежде всего в осуществлении баланса стратегии, тактики и оператики. Возникшая постглобальность — комплексная регионализация мира (прежде всего на основе базовых ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационных миров) при регулярности обменов материальными и духовными благами в глобальном масштабе — воплощается в новой стратегической реальности. Постглобализм наиболее выпукло проявляется как качество, во-первых, понима-ния/восприятия/представлений и, во-вторых, освоения складывающейся действительности в рамках материальных и духовных практик. «Информационный взрыв» повысил значение деятельности по оценке, отбору и переработке знаний, что естественным образом повышает общественную ценность одаренности и компетентности, фиксируясь в явлениях меритократии и экспертократии. Сокращение срока для принятия и осуществления решений, на протяжении которого действия являются продуктивными, увеличивает как роль допущенных к функциям власти и управления, так и статус народного контроля за их деятельностью (в частности, для препятствия узкокорыстному эгоизму, бюрократической коросте и административной коррупции).
При этом, с одной стороны, история полна зигзагами общественной жизнедеятельности культурно-цивилизационных миров, демонстрирующими неравномерность их развития и опору на разные комбинации факторов политико-экономического успеха [4; 5; 7; 10; 22]. С другой стороны, известны и случаи, когда культурно-цивилизационные миры отказывались от развития и ограничивали внешнее взаимодействие в попытках сохранить достигнутое, «обратить время вспять». Вместе с тем, например, реализация обратных связей позволяет вести сознательный курс как на стабилизацию тенденций развития социальноэкономической целостности, так и ее функционирование «вразнос», выдвигая задачи локализации, ослабления или же, напротив, усиления и акцентирования определенных свойств и процессов. В частности, терроризм — одно из проявлений патологизации и искривления общественной жизни ее затухающими формами организации.
Разумеется, сам процесс преобразований может происходить с большими или меньшими эксцессами. Важно, чтобы он не стал отказом от наработок и достижений прошлого, а расширил ресурсно-методологическую базу жизнедеятельности и развития каждого именно при интеграции созидательных потенциалов, в том числе и модерна, и традиции. Органичность сочетания преемственности и развития — важнейшее условие защиты идентичности постсоветского пространства, что высвечивает роль и лидеров, и институтов. Крайне существенно, чтобы поле социального и индивидуального творчества возрастало, а качество и длительность жизни увеличивались. Обществу — как отдельного культурноцивилизационного мира, так и ойкумены — важно разнообразие мировоззрений, поисков, подходов, покуда оно не подрывает основ его существования. Даже и сам продуктивный капитал формируется вокруг творческих возможностей и интеллектуального потенциала человека, их организации и использования. Перенос на уровень автоматов мускульных и энергетических функций повышает ценность собственно творческого потенциала человека, соответственно, улучшает социально-демографические показатели и качество жизни. Актуализация одаренности человека при этом — условие не только его личного счастья, но и развития общества. Таким образом, осознание и культивирование ресурснометодологических баз защиты и повышения ценности всякой жизни и возможностей творчества каждого становится не просто его индивидуальным делом, а определяющей общественной задачей.
Сущность происходящих процессов связана с противоборством различных вариантов дальнейших изменений, а не только с отмиранием прошлых стратегий и нарождением грядущих. Так, возможности и риски, даруемые человечеству развертывающимся историческим процессом, включают процессы прогнозируемые и непрогнозируемые, стихийные и целенаправленные, уникальные и закономерные, неуправляемые, самоуправляемые и управляемые, эволюционные и революционные, циклично-волнообразные и необратимопоступательные (как прогрессивные, так и регрессивные). Действие закона неравномерности исторического развития приводит к постоянной смене лидеров развития в ойкумене, видоизменяя представления о должном и желательном и обостряя конфликтность между культурно-цивилизационными мирами и внутри них, что обеспечивает конкуренцию подходов и многообразие поисков ответов на исторические вызовы. Состязание между странами и культурно-цивилизационными мирами в рамках «коридора свободы» определенного миропорядка при выходе за его пределы сменяется ожесточенной конкуренцией за формирование из хаоса нового порядка мироустройства на основе своей институциональной памяти, выливаясь в борьбу за возможность возглавить / использовать в своих интересах возникающие политико-экономические конструкции.
Уходящие с авансцены истории классы, государства и народы часто видели в своем поражении исчезновение государств. И всё же в балансе геостратегических сдержек и противовесов государственные образования (в определенном смысле — преемники) опять возникали. Но вот в какой степени государственные новообразования стали реинкарнацией великого прошлого, рефлексией возможностей — и какие исторические шансы были упущены безвозвратно и навсегда? Особенное значение для строго доказательного выявления этого имеет анализ столь качественно акцентированного феномена, как ценностносмысловые комплексы. При этом смысловые иерархии, заложенные в предметах духовной и материальной культуры, фиксируются и в языковой системе. Соответственно, общекультурные признаки становятся важнее генетических особенностей. Именно так вокруг осей ценностно-смысловых комплексов обеспечивают безопасность и развитие культурноцивилизационные миры. Впрочем, по общему правилу новый вид создается на границе популяции — там, где нужно бороться за выживание, конкурировать и меняться.
Сумятица смыслов и невнятность духовно-нравственных ориентиров обрекает неподготовленных на фрустрации на уровнях как индивидуальной, так и общественной пси- хологии и идеологии, вызывая особенно яростное сопротивление со стороны фаворитов прежнего мирового порядка. При этом состояние и развитие международных отношений проявляются прежде всего через взаимодействие культурно-цивилизационных миров, способных к поддержанию собственных систем жизнеобеспечения, и формирование самобытных структур общественных безопасности и развития. Именно соотношение этих «больших батальонов» всемирной истории выявляет общее, частное и специфическое, позволяет наглядно продемонстрировать организационно-управленческое искусство в оперировании возможностями и рисками на разных этапах жизненных циклов.
Перспективы начавшихся всемирных трансформаций напрямую зависят от того, в чьих интересах будут использованы открывающиеся возможности, кто их станет реализовывать, а также интерпретировать, следовательно, от борьбы главных претендентов на лидирование в осуществлении и осмыслении сдвигов [3; 8; 11; 12; 23; 24]. Например, очевидно, что формы и методы поддержания баланса между процессами общественной самоорганизации и государственного регулирования определяются сознательным выстраиванием образа своего будущего и его воплощением в оперативном, тактическом, стратегическом и большой стратегии потоках сквозь реализуемые решения. Как известно, сохраняя широкий диапазон инструментария воздействия, Запад стремительно теряет динамизм и привлекательность, а его претензии всё чаще расцениваются как граничащие с самозванством. Пренебрежение Запада интересами, правами, культурой и историей иных культурноцивилизационных миров заново проявилось не только в противодействии законным правителям Ирака, Ливии и т. д., оккупации и насаждении раздора, но и в готовности смести общемировое культурное достояние борющихся за свою независимость народов, а также в пиратской предприимчивости во время глобальных бедствий. Между тем инфантильная надменность эгоцентризма и «мудрая сила» слабо сочетаемы. Стратегическое высокомерие вызывает недоверие и отторжение, потому никак не связано с подлинным действенным управлением процессами. Атавизм колониального мышления выражается как в стратегическом высокомерии, так и в тотальном безразличии к судьбам прочих народов, готовности к захвату рынков и освоению земель вплоть до методов освоения земель Нового света — с геноцидом местного населения. Крайне болезненным проявлением патологиза-ции общественного состояния — как реальности, так и ее восприятия — выступают и двойные стандарты относительно терроризма: например, когда в угоду частным интересам боевики порой оцениваются в диапазоне от признания собственно террористами вплоть до оправдания, а то и героизации как якобы «борцов за свободу», «бунтарей». Зачастую пытаются навязать и столь же «гибкие» трактовки — вопреки и международной стабильности, и глубинным интересам народов — действий военных преступников и коллаборационистов с нацистскими режимами, да и заведомо оправдывать разнообразных диссидентов и разрушителей нежелательных режимов.
Вместе с тем отнюдь не только метастазы агрессивного блока НАТО, но и щупальца спрута глобалистских структур финансово-экономического империализма пытаются сохранить паразитирование доминирующей группы наднациональных элит вопреки воле народов на теле культурно-цивилизационных миров. Соответственно, их усилия по сдерживанию назревших коренных социокультурных и политико-экономических инноваций уже поставили человечество на грань всемирной катастрофы. В трансформации (вплоть до слома) общественных устоев и навязывании устаревших стереотипов глобальных центров устойчиво высока роль так называемых иностранных агентов, иностранных лоббистов и разнообразных диссидентов. «Спящие» и активно действующие «грантоеды» выступают гибким каналом пропаганды навязываемых ценностно-смысловых комплексов с поведенческими стереотипами и жизненными стратегиями.
Одновременно формируются или же возрождаются иные динамичные субъекты, проявляющие свои лидерские качества, в частности и в заботе обо всей ойкумене во времена бедствий (например, пандемии1), и создающие свои представления о желательном, нормативном и справедливом [18; 19; 20; 25]. Заметно, что ныне новые модели будущего пытаются репрезентовать и отстоять в первую очередь страны БРИКС+. Формирующиеся новые модели устройства должны расширить возможности привлечения к историческому творчеству и найти приемлемые решения наиболее острых антагонизмов. Вместе с тем как мюнхенский сговор сделал неизбежной перенос «большой войны» (уже вовсю реализовывавшейся правящей кликой Японии) в Европу, так и закрепление международного права Нюрнбергом сделало ялтинско-хельсинкские договоренности стержнем мира после Второй мировой. Отказ же от принципа нерушимости границ, проявившийся, в частности, в ликвидации ГДР, разделе СФРЮ (Югославии) и СССР, усилил предпосылки и дал мощный толчок большому переструктурированию и новому дроблению / собиранию сил. Так, при очередных трансформациях мирового порядка новую актуальность обретает опыт известных инициатив прошлого по коллективному противостоянию политике силы (например, известной «Декларации о вооруженном нейтралитете» XVIII века).
Однако на смену условной «эре Америки» не приходит эпоха кого-либо другого. Скорее, речь идет вообще о кардинальном изменении ресурсно-методологических баз развития. Логика истории ведет от попыток культуртрегерского неоколониализма с насаждением метрополиями удобных для себя моделей к полилогу культур. Место относительно стабильных конфигураций занимают ситуативные альянсы. При этом динамизм творческого поиска смещается от евроатлантической доминанты к азиатско-тихоокеанскому региону. В период межпарадигмального перехода на острие противоречий — отстаивание варианта дальнейшего структурирования. Дипломатия: официальная, народная, теневая, силовая («дипломатия канонерок» и т. п.) — выступает эффективным средством в конкуренции культурно-цивилизационных миров. Возникновение нового миропорядка происходит через сонмы конфликтов (включая и прокси-противостояния). Под спудом прежних тенденций и старых фактов динамично происходит структурирование (хотя еще не формообразование) уже вызревшей новой парадигмы: возникают не просто предпосылки грядущего, но уровень реализации возможностей и угроз в новой общественно-технологической парадигме. Особенностью постсовременных социально-экономических пространств в этот период выступает сложнопрогнозируемый характер соотношений вероятностей вектора и динамики развития. Вместе с тем под влиянием особенностей — как среды, так и собственных (связанных, в частности, с предшествующим опытом, объективными и субъективными целями и т. д.) — формируются некоторые предпочтения развития, отличия комбинаций возможностей и рисков, специфика этапов и разновидностей движения. Ныне кризисность характеризует само состояние общественной (в том числе политикоэкономической и финансово-спекулятивной) системы ойкумены, фокусируясь в проблемности переходного времени. В частности, недостаточно рационально расходуются и человеческий потенциал, и природные ископаемые, и технико-технологические возможности. Усиливает давление на общую ситуацию незанятый (или занятый неэффективно) трудовой потенциал. Одновременно накапливаются и риски от промедления в проведении назревших реформ в организации и регулировании экономической жизни ойкумены. Основные антагонизмы «эпохи перемен» сформировались на первом, наиболее глубоком, уровне — как противоречие между капиталом с одной стороны промышленным и с другой — спеку- лятивно-ростовщическим, денежно-кредитным; на втором — как противостояние хозяйственников и манипуляторов; на поверхности процессов — как противоборство стран, тяготеющих либо к консервации существовавшего два десятка лет моноцентричного мирового порядка, либо к переходу на множественность моделей (и, соответственно, регионов «сборки будущего»). Продолжается расхождение интересов представителей государств и транснациональных образований. Происходит движение от монопольной в определяющих чертах картины мира (в частности, отражаемой осознанием его в матрице стратегического мышления), навязываемой официальной доктриной, к выбору (желательно, осознанному) каждого [1; 2; 6; 9; 21].
Концентрированное фокусирование новой структуры международных связей общественной психологией и идеологией тесно коррелирует с существом происходящих процессов и намечающихся тенденций, которые проявляются прежде всего в трансформациях системообразующих отношений труда, собственности и управления. Изобилие вариантов организационно-управленческих решений особенно половодно при наложении разнообразия конкретных условий (в частности, территориально-географической и ресурсной определенности, этапа цикла, социокультурных и политико-экономических особенностей, выдвигаемых целей и приоритетов и т. д.) на обстоятельства системного глобального кризиса. Так, разумеется, пандемия в глобальных масштабах — катализатор, но отнюдь не причина кардинальных перемен в мироустройстве. Впрочем, она выпукло проявила особенности реакции на происходящее.
Соответственно, для преодоления кризисности совершенно недостаточно каких-либо частных усовершенствований; плодотворность антикризисного управления зависит от его вписанности в действия в «коридоре свободы», открытом межпарадигмальным переходом. Требуется радикальная активизация научно-интеллектуального потенциала, стало быть, действительная приоритетность образовательно-научно-производственного комплекса, преодоление тенденций к деиндустриализации и контрмодерну. Попытки же реализации позднелиберальных проектов изменений в экономике с ориентацией на модель «человека экономического» и сведение инструментария управления главным образом к неадаптированным западным шаблонам и экономической организации экономических отношений могут нести угрозу усиления тенденций дезинтеграции общества и противостояния социальных групп. Выпадающие обществу шансы могут быть упущены, а орбита дальнейших трансформаций снижена. Во многом весь диапазон последствий (включая и долгосрочные) — в поле ответственности нынешних поколений: народов, лидеров и социально-политических институтов. Собственно, механизмы народовластия существуют именно для того, чтобы в обществе побеждали и продвигались на общегосударственный уровень наиболее качественные лидеры, идеи, идеологии. Напротив, как замыкание в автаркии, так и скатывание в строительный элемент чужой цивилизации означает реальное исчезновение с мировой карты. Защита своей модели развития предполагает активное участие в делах всей ойкумены; попытки замыкания в себе чреваты внешним оперированием по принципу «черного ящика». Однако опасно и когда вступление в международные организации (например, европейские) провозглашается как самоцель, независимо от того, что от этого может получить (или потерять) конкретный культурноцивилизационный мир, когда идеология выдается за реальные потребности, а настоящими потребностями пренебрегают.
Таким образом, новая повестка дня диктуется отнюдь не только условиями пандемии и проявившимися вместе с нею особенностями реагирования, но и контраверсийностью тенденций: с одной стороны, ожесточения конфликтов (яркий пример — торговые войны США со странами Западной Европы и Китаем), усиления мер из практики неэкономиче- ской конкуренции, подъема старых зон противостояния (в частности, между ЕАСТ и ЕС), с другой — ассоциирования в крупные геостратегические акторы («от Лиссабона до Владивостока»), а также координации усилий в преодолении общемировых проблем (БРИКС+, ОПЕК+, ШОС). Одновременно крепнет тенденция на отход от всевластия транснациональных корпораций и надгосударственных организаций. В этой ситуации естественна заинтересованность не только в укреплении своих добрососедских отношений, но и таких же связей между ними, что, самое малое, выступает очевидным условием транзитной востребованности. Перспективы же проходящих глобальных трансформаций и, соответственно, черты складывающегося в многоуровневом противоборстве миропорядка во многом напрямую зависят от того, кто и в чьих интересах станет их осуществлять, то есть от борьбы основных претендентов на лидирование в проведении сдвигов. При этом защита суверенности и развитие самоидентичности (в частности, средствами системного мировоззрения и понимания смысла событий) — важный элемент стратегии, повышающий иммунные свойства общественного организма, в том числе перед лицом угрозы международного терроризма.
Список литературы Постглобализм в международных отношениях: взаимодействие культурно-цивилизационных миров
- Аллег А. SOS, Америка! М.: Прогресс, 1987. 272 с.
- Амин С. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. М.: Европа, 2007. 168 с.
- Анисимов О. С. Стратегическое управление и государственное мышление / РосФКО АПК, ЭСП. М., 2006. 654 с.
- Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская кн., 2001. 416 с.
- Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. 352 с.
- Калаич Д. Третья мировая война. М.: Литератор, 1995. 156 с.
- Кобяков А. Б., Хазин М. Л. Закат империи доллара и конец «Pax Americana». М.: Вече, 2003. 368 с.
- Малган Дж. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знания во имя всеобщего блага. М.: Ин-т Гайдара, 2011. 472 с.
- Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир. М.: Прогресс, 1999. 265 с.
- Ожиганов Э. Н. Стратегический анализ политики: Теоретические основания и методы. М.: Аспект Пресс, 2006. 272 с.
- Петров С. И. Политика и обеспечение национальной безопасности России. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2008. 158 с.
- Фулбрайт Дж. У. Самонадеянность силы. М.: Междунар. отношения, 1967. 255 с.
- Шедяков В. Е. Вектор постсоветских трансформаций как фактор глобальных преобразований // Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Proceed. of ІІI Intern. Scient. Conf. Leipzig University. April 26th. Leipzig, 2019. P. 40–41.
- Шедяков В. Е. Международные экономические отношения: стратегические тенденции // New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries / Scient. ed. & project dir. A. Jankovska. Riga: Baltija Publishing, 2019. Р. 451–472. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0
- Шедяков В. Е. Переходность как характеристика состояния постсоветского пространства // Economy and Society: a Modern Vectors of Development: Proceed. of ІІ Intern. Scient. Conf. Leipzig University. April 27th. Leipzig, 2018. Part II. P. 92–94.
- Шедяков В. Е. Постглобализм как социально-экономическое явление // Pyxes. 2016. № 4 (3). С. 104–114.
- Шедяков В. Е. Развитие международных экономических отношений в эпоху постглобализма // Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Proceed. of III Intern. Scient. Conf. Nova University. December 28 th. Lisbon, 2018. P. 11–13.
- Шедяков В. Е. Справедливость в организации международной жизни: постглобальные акценты // Virtus. 2019. Iss. 36. September. P. 206–210.
- Шедяков В. Е. Сравнение с представлением о должном как основание для оценки действительности // Актуальні проблеми філософії та соціології. 2018. № 21. С. 125–130.
- Шедяков В. Е. Трансформации международных отношений: роль ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационных миров // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні відносини». 2019. Вип. 5. С. 213–218. DOI: 10.32782/2663-5267.2019.5.29
- Blackwill R. D., Harris J. M. War by other means: Geoeconomics and statecraft. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 384 p.
- Gamble A. Crisis without end? The unravelling of Western prosperity. UK: Palgrave Macmillan, 2014. 240 p.
- Luttwak E. N. Strategy. The logic of war and peace. Cambridge: Harvard University Press. 283 p.
- Shedyakov V. Strategy of changes: challenges, measurements, priorities // Strategies for Sustainable Socio-Economic Development and Mechanisms Their Implementation in the Global Dimension / ed. by M. Bezpartochnyi; VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: St. Grigorii Bogoslov, 2019. Vol. II. P. 51–62. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11839233.v1
- Shedyakov V. Value-sense complexes as the basis for the consolidation of socio-cultural capital of civilizations: the contents, the trends of transformations, potential of management // Актуальні проблеми філософії та соціології. 2016. № 13. С. 91–94.