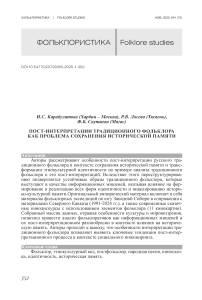Постинтерпретации традиционного фольклора как проблема сохранения исторической памяти
Автор: Карабулатова И.С., Лосева Р.В., Саутиева Ф.Б.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Авторы рассматривают особенности постинтерпретации русского традиционного фольклора в контексте сохранения исторической памяти и трансформации этнокультурной идентичности на примере анализа традиционного фольклора и его постинтерпретаций. Вследствие этого переструктурированию подвергаются устойчивые образы традиционного фольклора, которые выступают в качестве информационных мишеней, оказывая влияние на формирование и реализацию всех форм идентичности и нивелированию историко культурной памяти.Оригинальный эмпирический материал включает в себя материалы фольклорных экспедиций по югу Западной Сибири в сопряжении с материалами Северного Кавказа (1991-2024 гг.), а также современные сказочные кинодискурсы с использованием элементов фольклора (11 кинокартин). Собранный массив данных, отражая особенности культуры и мировоззрения, позволил провести анализ фольклоративов как информационных мишеней в их постинтерпретационном разнообразии в контексте влияния на историческую память. Авторы приходят к выводу, что особенности интерпретации традиционного фольклора позволяют выявить ключевые тенденции постинтерпретационного процесса в контексте социального инжиниринга.
Фольклор, этнокультурный код, постфольклор, народная песня, киносказка, идентичность, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/149147791
IDR: 149147791 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-352
Текст научной статьи Постинтерпретации традиционного фольклора как проблема сохранения исторической памяти
Folklore, ethnocultural code, post-folklore, folk song, film tale, identity, historical memory.
Проблема интерпретации и пост-интерпретации традиционного фольклора в виртуальной среде стала одной из актуальных тем современной научной дискуссии вследствие споров и поисков констант этнокультурного ценностного кода России и других стран мира [Волкова 2024; Abdelhameed и др. 2023]. Понимание исторической памяти тесно связано с этнокультурным ценностным кодом с опорой на понятия «оценка» и «ценность», которые неоднозначно трактуются в гуманитарных науках. На наш взгляд, ценность определяет область должного и идеального, в то время как оценка представляет собой ценностное отношение субъекта к объекту. В оценочном суждении важно не само отношение объекта к ценности, а выражение мнения о том, насколько объект соответствует или не соответствует нормативному идеалу, эталону или образцу. В настоящем исследовании анализируется пласт лирических народных песен юга Западной Сибири, собранные по результатам авторских экспедиций в Тюменской области, полученные от следующих информантов: Л.Н. Кирши-ной, 1930 г.р., А.Я. Кононова, 1939 г.р. (Тюменская область, Тюменский район, село Онохино); В.Д. Михиенко, 1939 г.р., А.А. Плотниковой, 1917 г.р., Т.Т. Грищенко, 1919 г.р. (Тюменская область, Викуловский район, село Викулово); В.И. Бухаровой, 1936 г.р. (Тюменская область, Ялуторовский район, г. Ялуторовск), А. А. Луценко, 1927 г.р. (Тюменская обл., Ишимский район, г. Ишим) и др. Временной интервал экспедиций – 1991-2023 годы. Исследовательская база настоящего исследования включает в себя более 200 аутентичных неповторяющихся текстов. Выбор региона обусловлен стратегическим значением юга Западной Сибири для всей России, высокими социально-экономическими показателями развития и сохранностью традиционной культуры. Особое место среди информантов занимают В. И. Бухарова (г. Ялуторовск) и А. А. Луценко (г. Ишим), поскольку обе являются носителями сибирской песенной традиции. Так, по признанию В. И. Бухаровой, она заучила наизусть все песни с 4-летнего возраста, сохраняя семейную песенную исполнительскую традицию. Об этом также говорила и А. А. Луценко, указывая, что ее мать и бабушка были «песельницами», а сама она с детства работала в няньках в других семьях,что способствовало запоминанию песен. В связи с этим можно отнести В. И. Бухарову и А. А. Луценко к носителям исконной песенной традиции. Часть текстов этих песен была опубликована как методологический источниковедческий материал для фольклористов [Лосева 2022]. Кроме того, для понимания процесса интерпретации и пост-интерпретации использовались материалы кинофильмов «Последний богатырь» (2017-2024), «Вий- 3D» (2014), «Гоголь. Вий» (2018), «Вий – 2: Путешествие в Китай. Тайна печати дракона» (2019), «Вий – 3: Путешествие в Индию» (2020). Для проведения анализа было отобрано 200 неповторяющихся текстов народных песен и 11 киносказок.
Пост-интерпретации особо подвергаются образы, входящие в ядро фольклорного языкового сознания.Они выступают в качестве информационных мишеней в фольклорном дискурсе, информируя о социальном устройстве народа, его убеждениях и привычках, что хорошо может быть проиллюстрировано на примерах народной песни юга Западной Сибири (табл.1).
|
№ |
Информационная мишень |
Пример фольклорного дискурса народной песни юга Западной Сибири из авторских коллекций тюменского фольклора Лосевой Р.Ф. и Карабу-латовой И. С. |
|
1 |
вдова |
« Ой, галасами, ой галасами / Маладую удавушку бу-дили »(«Ой, в Таганроге», г.Ялуторовск) |
|
2 |
солдатка |
«У солдатки губки сладки, на сахаре на мяду » («Не пляшите, девки, дужо», Тюменская обл., с. Онохи-но) |
|
3 |
гусар |
«Ночевав гусар у той молодицы » («Где ж ты, гусар, ночевал?», Тюменская обл., с. Викулово) |
|
4 |
Военные звания |
« Капитан ел картошку, лейтенант ел окрошку, а солдатик молодой ел курятинку со мной » («Дома не было тебя», Тюменская обл., с. Викулово) |
|
5 |
Этнические обозначения |
«Ты, баю, баю, ты баярский сын. Ты по батюшке зол татарчёнок, а по матушке ты русначёнок. А по роду мне ты внучёночек. И черев моих ты отрывочек » («Как за речкою, как за Дарьею», Тюменская обл., с. Сладково) |
|
6 |
рекрут |
« С коляски старшие вскричали: «Готовьте сына своего!»/ Крестьянский сын давно готовый/ Царю-Отечеству служить/» («Последний нонешний денечек», г. Ялуторовск); « Некрута, вы, некрута, да, Вам дарош(ы)ка, да, в никуда, да » («Некрута, вы, некрута», г. Ялуторовск) |
|
7 |
Казак, атаман |
« Маладой казак лихой да атамана сваво просит/ Дарагой мой атаман да долга дома ты пробудешь/ Ты напейся вады халоднай пра сваю жену забудешь » («Течет речка», г. Ялуторовск) |
Табл. 1. Информационные мишени в народных песнях юга Западной Сибири
Информационные мишени релевантныценностямнарода, определяя коллективный эмоциональный интеллект, который предопределяет векторы развития этнокультуры и ее сохранность в обществе, формируя систему координат этносоциокультурной идентичности.
Фольклорный дискурс оперирует информацией, которая имеет прямое отношение к коллективному историческому опыту, мифологии и психоэмоциональным переживаниям реальности: морально-нравственный выбор, социальные и внутренние личностные конфликты [Sautieva и др. 2021; Safonov, Orlov 2018]. Можно выделить основные информационные мишени фольклорного сознания, представленные мифолого-фольклорными персонажами, встречающимися как в пост-интерпретационном пространстве интернета, так и в интерпретационном русском классическом музыкальном искусстве и сказочном кинодискурсе (табл.2).
|
№№ |
Наименование класса фольклоративов |
Информационные мишени |
|
1. |
Языческий божественный пантеон |
Ярило, Перун, Луна, Ветер, Лада, Лель, Весна, Мороз, Купала, Снегурочка |
|
2. |
Низшие божества и бестиарий |
Русалки, леший, водяной, кикимора, Лихорадушка, черти, водяной, оборотни, русалки, Черномор, Алконост, Сирин, Жар-птица, Золотой Петушок |
|
3. |
Проводники потусторонней силы |
Боян, Ведьма, колдунья, Баба-Яга, Сивка-Бурка, Шемаханская царица, Звездочет, Иванушка-дурачок, Садко, Мизгирь |
|
4. |
Былинные персонажи и богатыри |
Илья-Муромец, Финист-ясный сокол, Алеша Попович, Забава, Феврония, Алёнушка, князь Владимир |
|
5. |
Люди из народа |
Казаки, монах, Стенька Разин, Кудеяр-атаман, нищий, нищая, чернобровая казачка, Марья, Катерина, Василиса, крестьянка, солдатка, служивый, командир, атаман, арестант |
Табл.2. Представленность мифолого-фольклорных персонажей в интерпретациях и пост-интерпретациях
Для нас важно понимать, что именно в фольклорном дискурсе может стать уязвимой информационной мишенью в условиях пост-интерпретационного функционирования и реализации в современной цифровой среде [Khachma-fova и др. 2017]. Фольклорно-мифологические персонажи, включенные в пост-интерпретационное пространство современных произведений, оказывают влияние на витальность этнокультурного традиционного ценностного кода вследствие отсылок к традициям сказки и народной песни календарно-обрядового и лирического циклов. Мифологизация реальности проникла даже в те сферы современного технологического мира, которые, по мысли Ж. Делеза, традиционно тяготеют к рационализму и прагматизму:
«Не исключено, что идея мифа представляет собой саму Идею культуры в ее постоянных репрезентациях и в порыве погружения в свои собственные истоки с целью перевоплощения в саму судьбу человечества» [Делез 2004, 93].
Традиционные мифологемы в пост-интерпретации — это результат чрезмерного преувеличения Логоса, который становится «чистым» высказыванием и «идеальным событием», существующим исключительно в виртуальном пространстве как в поликодовом цифровом двойнике фольклорного знания. При этом изменение данных в виртуальной копии запускает процесс трансформации отношения к самому фольклорному источнику, меняя константы исторической памяти, что приводит к изменению этнокультурной идентичности. В пост-ин-терпретационной репрезентации фольклорных элементов мифологическое и логическое сначала противостоят друг другу, а затем меняются местами. Фольклорные истории, основанные на эмоциональном опыте и «рассказанные» народной песней, киносказкой, виртуальной игрой, оперой, мультфильмом, получают сначала логическое обоснование, а затем логически обоснованные версии находят подтверждение в эмоциональном (историческом) опыте.
В свою очередь, фольклоративы, понимаемые как устойчивые образы фольклорного дискурса [Khachmafova и др. 2023, 260], помогают понять феномен речеповеденческой матрицы современных носителей языка через призму устоявшихся традиций русского этнокультурного поведения, зафиксированного в фольклорном дискурсе как выработанного этносоциокультурной практикой механизма социальной нормы. Мы рассматриваем речеповеденческую норму в фольклорном пространстве в контексте понимания этнопсихолингвистической нормы [Поливара, Карабулатова 2012]. При этом использование семиотических маркеров невербально-паравербального поведения человека нацелено на выработку нейролингвистических стандартов реагирования в том или ином социуме через движения тела и голос как в повседневной коммуникации [Крейдлин, Кронгауз 2018], так и фольклорной обрядово-ритуальной коммуникации [Лосева и др., 2024] через нейроморфную систему поощрения и наказания [Talanov и др.
2025], став основой теории нейроэстетики [Zeki 2000]. Важным определяющим фактором становится фольклорно обусловленная гендерная матрица, в которой 3-уровневость структуры (пол/гендер/сексуальность) выступает в виде неделимого целого [Батлер 2000; Лосева 2020]. Вместе с тем она также подвергается компрессии информационного воздействия. Например, образ Леля в опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», написанный композитором для меццо-сопрано, в исполнении современных контртеноров отсылает к образу трикстера: длинные волосы по пояс, агендерная одежда, но без элементов смеховой культуры. Такое прочтение меняет отношение реципиента к традиционной системе социальных координат как речеповеденческой матрице. Соответственно, историческая память в фольклоре реализуется на трех уровнях: аффективно-невербальный уровень – аффективно-паравербальный уровень – аффективно-вербальный уровень. Такое представление соотносимо с фольклорной языковой картиной мира.
Верхний уровень, который воспринимается безусловно и/или плохо осознается, но обладает существенным влиянием – это гендерно обусловленные маркеры на предметно-вещественном подуровне (одежда как лингвосемиотический маркер гендера) и на кинесическом подуровне (движения тела, характерные отдельно для мужчин и женщин, в повседневной коммуникации и в сопровождающей песню коммуникации в виде специфических жестов и/или танцевальных движений). Вместе с тем агрессивное воздействие на эту сферу негативно оценивается фольклорным языковым сознанием, что хорошо может быть проиллюстрировано на примере казачьей шуточной песни « Во тобольском во трактире », записанной от А. А. Луценко, с характерной аффектацией внимания реципиента для стимуляции дофаминовой системы поощрения в предвосхищении наказания представителей другой культуры:
«У одной затылок бритой/Глаз раскрашен, как подбитый / Третья без косы, (…) / Вот четвёрта - красно-рыжа/привезена из Парижу (…) / Н а ней юбка с шёлка красна/Воротник собачий страшный (…) / Носик длинненькой утиной в два аршина с половиной / Вот-те красота, да (…) / Да в грудях торчит платочек / Словно угольный мешочек. (…) / Зубы белые, как вата/ Да широки, как лопата –/ Хош навоз кидай, (…) / В волосах торчит грибёнка (…) / В ней походочка такая, (..) / Задом всё одно вихляет / Не паймёшь как А (…) / На одной ноге – штиблета / На другой – лапоть надетый (..)» (Информатор А. А. Луценко, 1927 г.р., Тюменская обл., г. Ишим, «Во тобольском во трактире»).
Судя по тексту и по напеву мелодии с отсылкой к знаменитому «Танцу маленьких лебедей» П. И. Чайковского, эта народная песня возникла в период 1 Мировой войны и Гражданской войны в 20-е гг. ХХ века. Традиционные лингвосемиотические маркеры предметного кода одежды в фольклорном подкорпусе языка были подробном нами рассмотрены в коллективном исследовании, посвященном гендерной семасиологии в традиционном фольклоре России, Адыгеи и Китая [Khachmafova и др. 2023].
Вместе с тем появляются новые жанры, например, фолк-рэп, фолк-рок, фолк-поп, а также электронная музыка и сэмплы компьютерных игр, основан- ные на народных мотивах [Карабулатова, Лосева 2025]. Это позволяет привлечь внимание молодого поколения к традиционному фольклору и сохранить его актуальность [Бартминский 2010; Кочергина 2020]. Уникальность роли языка в исследовании этнокультурной специфики фольклорного дискурса подтверждается лингвокультурной стереотипизацией в традиционных сообществах, несмотря на споры о механизме сохранения этноса в социокультурной практике, о воспроизводимости и лабильности этнокультурной речеповеденческой матрицы в условиях психолого-информационной войны [Лассан 2009]. Искажение исторической памяти и культуры при интерпретации особенностей фольклорного дискурса, наряду с информационными войнами, приобретает ряд методологических проблем в гуманитарной области знания для выявления устойчивости культурных ценностей в современном пост-фольклоре [Карабу-латова, Копнина 2023].
Языковое сознание, основанное на характерологических особенностях структуры произведений устного народного творчества, определяет значимость функциональных и стилистических особенностей в системе народной поэтики в языке с их влиянием на формирование и воспроизводство этносоциальных стереотипов. По мнению М.Л. Ковшовой, в культуре «организуются и иерархически упорядочиваются культурные коды - вторичные знаковые системы, использующие разные материальные и формальные средства для кодирования одного и того же культурного содержания, соединяющегося в целом в картине мира, в мировоззрении данного социума» [Ковшова 2012, 170]. При этом переход семиотических знаков культурного кода в вербальное означивание характеризует собой процесс формирования этнолингвокультурного кода, который воспроизводится в повседневной речевой практике в этнокультуре. Исследователи подчеркивают, чтона трансформацию компонентов речеповеденческой матрицы и изменения в мифологизированной картине мира влияют миграционные процессы и этносоциокультурные катаклизмы [Ruan, Karabula-tova 2021; Ленивихина, Пименов 2015].
В современном мире с развитием информационных технологий все больше внимания уделяется сохранению этнокультурного самосознания и различных форм идентичности, обеспечивающих витальность этноса и государства [Bell, Paegle 2021], поэтому исследовательский фокус всё больше и больше смещается в сторону анализа традиций и фольклора [Топорков 2014; Худолей 2017]. Совместная постановка задачи поиска и обработки информации с помощью технологических решений приводит к междисциплинарным прорывным исследованиям в изучении наследия прошлого [Sun и др. 2024]. При этом интерпретация традиционного фольклора в виртуальной среде имеет свои особенности [Воякина 2023; Кочергина 2020] вследствие влияния использования анимации, нейросетей, игрового пространства в виртуальной реальности [Ефимова 2016; Na Zongyuan, Guan Xiujuan, Karabulatova 2024]. Благодаря этим инструментам появляются новые интерпретации народных сказок, песен, обрядов и т.д. Однако, цифровые технологии могут создавать новые форматы интерпретации фольклорных компонентов в этнокультурном ценностном коде, трансформируя самые разные вида идентичности, обнаруживая деструктивную опасность [Ипполитов 2024].
Вместе с тем это позволяет представить эволюционный характер развития современной фольклористики, обозначая лакуны, значимые для последующих изысканий. Например, интернет-пространство изобилует отсылками к сказочным фольклорным образам в никнеймах пользователей социальных сетей (всевозможные Иваны: от Ивана-царевича до Иванушки-дурака и т.д.). При этом особое значение имеет изначальная авторская анонимность как отражение принципиального отрицания фигуры автора, что позволяет вносить изменения в фольклорный текст. Этот принцип широко использовался в традиционном фольклоре. Так, в скоморошине «Во тобольском во трактире» может меняться локус в зависимости от региона бытования песни, в связи с чем известны варианты «Во тюменском во трактире», «Как во ишимском во трактире», «Как в придорожном да трактире»и т.д. Кроме того, могут меняться действующие лица: «Сидят бабочки четыре:чудно хороши», «Сидят барышни четыре:дивно хороши», «Сидят дамочки четыре: очень хороши»и т.д. Соответственно, чем популярнее песня, тем охотнее ее подвергают различным изменениям, благодаря чему происходит некое «присвоение» песни в конкретном локусе. Однако, несмотря на внесение некоторых изменений в текст народной песни, все носители традиции четко осознают необходимость следования заданному формату исполнения, вписывая новый вариант песни в существующую традицию распространения фольклорного знания как ценностного фона коммуникации.
Русская народная лирическая песня демонстрирует компромиссные установки для сознательного вмешательства и вероятностной репликации на основе некоторых элементов импровизации, что закрепляет значимость традиционных ценностей в этнокультурном коде за счет актуализации фольклорного знания. Например, известная плясовая народная песня « Барыня » имеет огромное количество региональных вариантов, в том числе в Сибири и за ее пределами. Так, в тюменском варианте мы встретим строки: « Шла барыня из Тюмени , поскользнулась на пельмене, а барыня померла – неизвестно, куды шла ». В тоже время в « Харбинской барыне » эти строки трансформировались под влиянием местных реалий: « Шла барыня из Харбина, далеко аж до Пекина, а барыня померла… ». В других регионах эти строки трансформируются, также привязывая фольклорное произведение к месту: « Шла барыня из Ростова, повстречала Льва Толстого… » и т.д. На наш взгляд, распространению вариантов изначально способствовала казачья культура, которая благодаря мобильности казачьих войск способствовала расширению узуса функционирования народной песни.
Сложный этнический состав казачьих военных образований способствовал обмену фольклорными произведениями, в результате чего возникали новые адаптированные варианты. Например, на сибирской почве песни запорожских казаков приобрели местный колорит: « Ой, ты, хмелюшка- хмелек, в поле развевался, где ж ты, гусар, ночевал, да не разувался » (информант Воробьева П.М., дер. Борки, Тюменский район, Тюменская обл.) имеет явную отсылку по мелодическому рисунку и содержанию к известной казачьей песне « Хмелю, мiй хмелю ». Также южнороссийская народная песня « Теренмати коло хати, в нього цвет бiленький » получила распространение, как « Вот боярка расцвела, цветочки дробненьки » (информант Луценко А.А., г. Ишим, Тюменская обл.). Коллективный региональный интеллект в этой ситуации выступает в качестве регулятора отбора фольклорного произведения для дальнейшего распространения.
В настоящее время понравившееся оцифрованное фольклорное произведение также может измениться под местные реалии с учетом устной специфики интеракций. В связи с этим существует настоятельная необходимостьразра-ботки критериевэкспертной оценки для определения распознавания источника в фольклорном дискурсе и пост-фольклоре [Дандес 2003; Карабулатова, Лосева 2025]. Выявление критериев пост-интерпретации фольклора в виртуальном пространстве с установлением причинно-следственных связей представляет собой важную задачу в аспекте моделирования этносоциокультурной идентичности. К сожалению, эта лакуна в научном поле зачастую заполняется в сто-ронунегативизации этнокультурной матрицы носителя русской культуры. Так, в работе Н. Гануделёвой, представителю центра украинистики философского факультета Прешовского университета указывается, что для русской «традиции миф как таковой не фигурирует, но присутствует косвенно» [Гануделёва 2012, 1].Подобные изыскания служат основой для формирования негативной этносоциокультурной идентичности у носителей культуры и усиления оппозиции «свой – чужой» между близкородственными народами внутри славянской языковой общности.
Лингвистические маркеры, основанные на определении эмоционального состояния субъекта речи, определяются в зависимости от лексических тональностей составляющих его единиц, правил, сочетаний. Например, существующие варианты известной казачьей песни « Не для меня » демонстрируют как музыкальные варианты, так и текстовые, причем в текстовых пост-интерпре-тационных вариантах мы можем наблюдать развитие сюжетной линии (« А из тюрьмы сошлют в Сибирь, сошлют на дальнюю сторонку, сольют с народом арестантским. В побеге пуля ждет меня...» ). За пределами Сибири этот акцент отсутствует, завершая повествование о невозможности следованию прежней жизни и получения христианского прощения (« День Пасхи, он не для меня » или « Пасхальный звон не для меня »). Этот пример показывает, что в том, что касается определения традиционных культурных ценностей, объекты, указанные в исходных текстах, исходя из их идентичности, существенно различаются в разных регионах. Несмотря на то, что фольклор является важной частью культуры и народного наследия, зачастую его пост-интерпретация подвергается искажению и переформатированию в современной психолого-информационной войне для демонизации традиционной культуры стран, являющихся идеологическими противниками [Хабаров 2022]. Интерактивность и доступность виртуального пространства помогает погрузиться в мир народного творчества, узнать историю своего народа и укрепить свою связь с традициями предков. Однако, при этом возникает опасность преобразования акта творчества в некое ритуальное действо, которое, по справедливому замечанию В.И. Тюпы, девальвирует сам феномен творчества в современных условиях [Тюпа, 2024]. Это связано с включением ценностей, которые не имеют отношения к данной культуре, что наблюдается в сиквеле « Последний богатырь » (2017 – 2024 гг.), где русские богатыри и традиционно позитивные фольклорные герои (например, Колобок ) зачастую представлены в карикатурных или отрицательных образах (например, богатырь Финист ). Также обнаруживаются чужеродные элементы, формирующие негативные этносоциокультурные установки, в новых экранизациях повести Н. В. Гоголя «Вий», где в экранизациях « Вий-3D » (2014 г., режиссер-сценарист О. Степченко, продюсер А. Петрухин) и « Гоголь. Вий » (2018 г., режиссер Е. Баранов, продюсер и сценарист А. Цыкало) используются поликодовые средства персуазивного воздействия для трансформации отношения к русским и украинцам (нагнетание колористики темных цветов, использование диссонирующих музыкальных ходов с семантикой тревожности и т.д.). Следует отметить, что создатели франшизы чрезмерно вольно трактуют гоголевский текст, перенося действие с юга Украины в
Карпаты. При этом в авторской кинофантазии « Вий -2: Путешествие в Китай, или Тайна печати дракона » (2019 г., режиссер-сценарист О. Степченко, продюсер А. Петрухин) была предпринята и попытка трансформации отношения к Китаю в сторону негативизации. Далее, в киносказке « Вий-3: Путешествие в Индию » (2020 – 2025 гг., режиссер-сценарист О. Степченко, продюсер А. Петрухин) обнаруживается негативная пост-интерпретация с формированием отрицательных установок к Индии и индийской культуре. При этом во всех фильмах главным положительным героем является введенный современными интерпретаторами образ британского картографа Джонатана Грина , глазами которого описывается происходящее.
Использование этнических гетеростереотипов для усиления оппозиции «свой – чужой» при реалистичном воплощении образов с помощью цифровых технологий (типа: волки-оборотни, вампиры и т.п.) в сочетании с устойчивыми фольклорными ходами в сюжетной линии и мелодическом рисунке обеспечивает персуазивную пост-интерпретацию традиционной этнокультуры с подменой ценностей как маркеров этнолингвокультурного кода. В результате фольклорный образ утрачивает свою первоначальную эмоциональную однородность и логическую последовательность, превращаясь вофрагмен-тировано-пиксельный элемент виртуальности, в которой пазлы оказывают деструктивное влияние на восприятие объективной реальности. Кроме того, фольклорно-мифологический образ, становясь информационной мишенью в пост-интерпретациях интернет-творчества, представляет собой многослойную структуру, которая включает в себя все возможные вариации изначального сюжета. Пост-интерпретации фольклора опираются на многомерную модель русского традиционного ценностного кода, в рамках которой формирование социально одобряемого этнокультурного поведения пронизывает пять важных областей: невербальный музыкальный язык, само слово как таковое, вокальную технику (как паравербальный язык), пластику (сценическую кинесику), визуализацию фольклорного произведения, – которые стали дополняться технологиями искусственного интеллекта .
Пост-интерпретационная репрезентация народной песни, сказки приводит к усилению событийной стороны фольклорного источника.Вместе с тем включение в одну тему различных фольклорных жанров в пост-интерпретации объединяет несколько сюжетных линий в одном произведении. Жанровое сопоставление музыкальных жанров в рамках одного фольклорно-поэтического произведения создает глубокие внутренние контрасты благодаря неожиданным переходам от одного жанра к другому. Все это усиливает эмоциональную наполненность восприятия времени в фольклорном жанре, который становится частью творческого замысла современного интерпретатора-исполнителя.
Одной из важных тенденций является использование не жанровых, а языковых и визуальных особенностей фольклора. В многомерном фольклорном этнокультурном конструкте виртуального пространства обнаруживается несколько значимых векторов, демонстрирующих сходство общих подходов к поликодированию в кинематографическом дискурсе. Многие пользователи Интернета создают собственные версии народных песен, а также адаптируют известные фольклорные произведения к современным реалиям.
Современный мир стал свидетелем множества конфликтов, обусловленных различными культурными различиями и противоречиями. Однако зачастую именно искажение культурных ценностей становится источником этих конфликтов. Каждыйнарод обладает своей уникальной культурной самобыт- ностью, которая формируется под влиянием исторических, географических, социальных и других факторов. Разработка технологий определения особенностей интерпретации русского традиционного фольклора должна включать в себя концептуальную базу, которая позволит более точно определять смысловые значения анализа данных и понимать различия между культурами. Таким образом, этнокультурный ценностный код – это объясняемый и формализуемый конструкт с четким механизмом воспроизводства, который переходит из области абстрактной метафизики к реальному моделированию в период первой цифровой информационной войны, обнаруживая новые грани воздействия на сложную систему историко-культурной памяти.