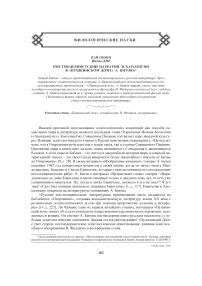Постмодернистский нарратив эсхатологии в «Пушкинском доме» А. Битова
Автор: Вэй Сяоин
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 8 (201), 2025 года.
Бесплатный доступ
Андрей Битов – один из представителей постмодернизма в русской литературе. Ярко выраженное эсхатологическое сознание А. Битова наиболее полно представлено в его кульминационном произведении – «Пушкинский дом». А. Битов пишет о том, что идея всеобщего воскрешения русского религиозного философа Н. Федорова оказала на него глубокое влияние. А. Битов применяет ее к героям романа, особенно к интеллектуальной фигуре деда Одоевцева и таким образом излагает уникальную философию воскрешения слова в постмодернистской литературе.
«Пушкинский дом», эсхатология, Н. Федоров, воскрешение
Короткий адрес: https://sciup.org/148332012
IDR: 148332012
Текст научной статьи Постмодернистский нарратив эсхатологии в «Пушкинском доме» А. Битова
Важной причиной использования эсхатологических концепций как способа осмысления мира в литературе является последняя глава Откровения Иоанна Богослова («Апокалипсис»). Как известно, Священное Писание составляет ядро западной культуры. Влияние эсхатологического учения в России невозможно переоценить. «Не исключено, что в Откровении речь идет как о конце света, так и о конце Священного Писания. Наложение мира и книги идет дальше: книга начинается с Сотворения и заканчивается Концом; в этом смысле Библия – это эпизод в масштабной истории мира, и каждый литературный эпизод – это своего рода микрокосм более масштабного эпизода от Бытия до Откровения» [9, с. 28]. В своем интервью «Изобретение каменного топора» А. Битов называет 1963 год поворотным моментом в своей жизни, когда он начал читать Мандельштама, Зощенко и Святое Евангелие, которые стали источником его последующих постмодернистских работ. А. Битов в интервью «Прорастание слова» говорит: «Парадоксально, но даже Евангелие я прочел впервые только в двадцать семь лет, то есть уже сложившимся писателем. Но, когда я читал Евангелие, неужели я его не знал?! Я его знал! «Сад» был написан человеком, знающим Евангелие» [1, с. 117]. Евангелие и Апокалипсис повлияли на литературную концепцию А. Битова.
«Русские постмодернистские литературные произведения часто ссылаются на библейское «Откровение», создавая апокалиптическую литературу конца XX века с религиозным эсхатологическим духом при помощи пророчества, аллюзии и метафоры» [14, с. 225]. Ли Чжицян, один из первых китайских ученых, изучавших «Пушкинский дом», пишет об эсхатологическом повествовании и религиозном откровении, заложенных в романе. Он считает А. Битова постмодернистским русским писателем с глубоким эсхатологическим сознанием. Данная статья рассматривает «Пушкинский Дом» с трех сторон: постмодернистское эсхатологическое повествование, влияние идеи всеобщего воскрешения Н. Федорова и воскрешение слова.
* Исследование выполнено по проекту «Исследование постмодернистского творчества А. Битова», который реализуется при финансовой поддержке Университета финансов и экономики Нинбо. Номер проекта: 1320259014.
Постмодернистское эсхатологическое повествование
Основная часть «Пушкинского Дома» состоит из трех разделов. Мы остановимся на первом и последнем. Пролог описывает смерть главного героя – Левы. Конец его жизни – точка отсчета романа. Однако это лишь первая часть повествовательной структуры. В третьей части автор с запозданием добавляет к роману три длинных эпилога. В них происходит воскрешение Левы после смерти. От пролога, предвещающего смерть Левы, его рождения в первой части до смерти Левы и воскрешения из мертвых в третьей части. А. Битов следует повествовательной схеме «смерть – жизнь – смерть – воскрешение – жизнь». Эта повествовательная схема похожа на структуру Библии, которая начинается с Книги Бытия и заканчивается Откровением Иоанна Богослова.
Уникальная повествовательная структура «Пушкинского дома» раскрывается в прологе, где описывается смерть. Эта сцена порывает со штампами литературной традиции и становится экзистенциальным переживанием и отправной точкой читательской интерпретации. Читательская интерпретация текста дополняется по мере появления новых литературных фактов, но первое впечатление и эффект от прочтения трудно стереть, поскольку читатель следует за сценой пролога в ожидании разгадки тайны смерти. Битов наделяет смерть уникальной повествовательной ценностью. Здесь концепция А. Битова сходна с учением об откровении Н.А. Бердяева, который утверждает, что «смерть показывает глубину жизни, раскрывает конец, и только конец может придать жизни смысл» [11, с. 254].
Таинственная смерть Левы проходит красной нитью через всю его жизнь. Лева несколько раз попадает в таинственное царство Ада, прежде чем сразиться с Митишатье-вым. Это отражено в разных частях романа: «Наследник (Дежурный)», «Г-жа Бонасье (Дежурный)», «Дежурный (Наследник – продолжение)» и «Невидимые глазом бесы».
Главный герой переносится в мистическое пространство с помощью традиционного приема – сна: «Лева так и уснул на директорском диване... Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию, прямо около института, в ноябрьской Неве...» [3, с. 113]. Переход через реку по воде или вброд – символ смерти и воскрешения после смерти. В китайской мифологии, прежде чем человек станет призраком, он должен пройти через Реку Забвения и выпить отвар, приготовленный небожительни-цей Мэнпо, который она готовит на воде реки Забвения. Мертвый забудет все свое прошлое, прежде чем он сможет пересечь Мост Найхэ. В мифологическом романе «Путешествие на Запад» Танский Монах и его ученики, пройдя через испытания и невзгоды, пришли к Горе Духов и должны были пересечь реку, прежде чем попасть во Дворец Сокровищ Будды. Глубина пропасти, отделявшей людей от лодки паромщика, составляла десять тысяч чи . Они, рискуя жизнью, бросились в бушующую реку, только тогда сбросили свои бренные тела и перешли в царство истинного бессмертия.
«Снилась ему широкая река, как бы та самая, что течет у их института, но и не та самая. Она неожиданно и не вовремя вскрылась ото льда и оказалась густая, как клей. Над ней стоял тяжелый пар, и все сотрудники института, невзирая на положение и возраст, должны были плыть через нее, для сдачи норм ГТО» [Там же, с. 253]. Вода, как вязкая жидкость – это метафора Данте, в дальнейшем аллюзия Левы на Данте усиливается, когда он думает о Митишатьеве, как о Вергилии. Во сне Лева видит множество людей, которые размахивают руками и упорно плывут, только капитан Немо колеблется. Характер капитана Немо в романе можно трактовать по-разному, и семантический уровень этого персонажа может показаться поверхностным, но в нем есть и смысл. Имя «Немо» осмысляется как немой, тихий и молчаливый. Капитан Немо – провожатый в мир смерти, и смерть приходит тихо и бесшумно. Смерть – это река, которую необходимо пересечь. Это метафора означает, что никто не может избежать смерти. Такова судьба.
Сны Левы были навеяны явью, как и его беседа с вахтершей. От этой беседы он проснулся. «Вдруг вчерашний вечер опрокинулся на него, но все это, тем более вахтер- ша, был еще сон, театр теней – Лева этого не помнил... Фаина?.. Однако – не Фаина: телефон зазвонил снова, как бы громче и чаще, чем в первый раз...» [Там же, с. 254]. Телефон зазвонил громче, чем в первый раз, и это мог быть сон Левы. Лева не спит, следуя логике сна, «не понимая, где он и почему» [Там же]. Позже в сновидении снова появляется адская вода, и «в трубке раздавался волнистый плеск, как в тазу...» [Там же]. Потом он объясняет: «Так вот откуда этот странный плеск в трубке!» [Там же]. Странный звук в микрофоне был создан звуком потока процессии, состоящей из людей, которые тянулись из густой воды, – сцена, описанная в аду Данте. Первые слова, которые произносит Митишатьев, приветствуя Леву: «Гниешь?» [Там же]. Слово «гнить» сразу переносит Леву в царство мертвых.
Вторая глава третьей части, названная «Невидимые глазом бесы», состоит из серии призрачных эпиграфов, продолжающих тему снов. Леве хорошо удается использовать эскапистскую сущность сна, чтобы оправдать себя: «Как не воспользоваться безопасностью сна! – Леву очень радовало это соображение, что во сне все можно безнаказанно <...> он догадался, что это сон» [Там же, с. 283]. Тени в нетварном мире не редкость, они обладают своими атрибутами. «Тень Митишатьева отбрасывала рожки... Митиша-тьев подкинул белый шарик и поймал черный – раздался пистон. Запахло серой» [Там же]. Лева видит, как у Митишатьева растут рожки: «Ты мой Вергилий! – сказал Лева, чтобы тот не догадался, что Лева з н а е т » [Там же]. Автор намеренно выделяет слово «знает», чтобы подчеркнуть, что Лева что-то знает, а увидев рога, угадывает образ последнего. Враждебность Митишатьева к Бранку скрашивается его грубым характером, цветовые атрибуты Митишатьева тоже черные: «Тот сощурился папироской. Нашарил выключатель и включил безбоязненно... Ничто так уж не озарилось, как представлялось» [Там же]. Тьма следует за Митишатьевым, как тень, и он объявляет себя представителем зла: «Значит, это Митишатьев потушил <...> тут вспомнил, как шел торжественно и зажигал, а Митишатьев, стало быть, сзади крался и тушил... Митишатьев выпрямился, избавился от позы подглядывания, головой ушел в темноту» [Там же, с. 290]. Отдельные детали, незначительные сами по себе, при оценке в целом дают понять, что это нетварный мир. Это говорит о том, что Лева уже несколько раз до дуэли входил в таинственное царство смерти.
Поздний роман А. Битова «Ожидание обезьян» (1993) рассказывает об индуистском мифе, в котором дьявол создает обезьян в подражание Творцу, а Бог орошает обезьян своими слезами, после чего обезьяны превращаются в людей. По мнению А. Битова, обезьяна – первоначальная форма человека, которая была создана дьяволом и стала человеком благодаря тому, что Бог даровал ей душу, которая и является источником двойственности человека. Религиозная тематика – одна из важнейших в поздних произведениях А. Битова. В романе «Оглашенные» писатель ставит вопрос: «Был ли Иисус евреем?» Эсхатологический взгляд Битова на жизнь и смерть проявляется уже в «Пушкинском доме». Этот роман был написан в 1964–1971 годах. А. Битов представляет таинственное рождение человека так: «если жизнь и время имеют безнадежно разные скорости: либо ты вырываешься из времени, либо отстаешь от собственной жизни. Плоду надоело ожидание рождения к концу второго месяца, и, если он появится к концу девятого, то от безнадежного безразличия к вопросу бытия и небытия. Не удалось стать вовремя рыбкой, попозже птичкой, все пропущено – человек родился» [Там же, с. 246–247].
Религиозное представление о грядущем конце света оказывает глубокое влияние на человека, и «Пушкинский дом» использует жизненный опыт Левы, чтобы рассказать о различных кризисах, вызванных приближающимся концом света. С самого рождения его жизнь тянулась «божественной нитью», и он жил «довольно безбедно». В канун праздника 196… года Лева насторожился: «Прожив для себя достаточно длинную жизнь, Лева был человеком мнительным. То есть он преждевременно взволновывал- ся предстоящим и встречал его почти равнодушно, когда оно наступало. Так он жил по соседству с бедою, всегда переживая ее рядом с непосредственной болью. Он «так и знал», когда что-нибудь с ним, наконец, случалось, а потому бывало еще обидней, что судьба тупо не меняла своего русла, легко смывая преграду его предвидений и предчувствий...» [Там же, с. 248].
Конец света – это судьба всего человечества. Рождение и исчезновение человеческих существ предопределено. Дело лишь во времени – рано или поздно это произойдет. Чувствительный Лева ощущает жестокость и непреодолимость судьбы, и его сильное чувство кризиса не ослабевает благодаря благосклонности и руководству «божественной нити». Внутренний кризис Левы универсален и отражает общую судьбу человечества.
«Эту осень Лева переживал особенно остро. Слишком мерно струилась та самая «божественная нить», слишком долго ничего не происходило, чтобы все это «ничего» не скопилось и не означило хоть «что-нибудь». Лева ощущал над собою некое неявное сгущение, какой-то замысел сил... Неизвестно, откуда и что ему грозило, но Оно подкрадывалось к нему, неопределенное и неоправданное, оттого все страхи Левины казались и ему самому неумными и неуместными... Проходила осень, на которую он еще весною с такой надеждой все отложил, золотая осень, которую он, по примеру Александра Сергеевича, предпочитал для вдохновения, вот и октябрь прошел – ничего» [Там же] Лева предвидел наступление судьбы, и он ждал ее в свое время. В отличие от ожидания Христа, который ждал чего-то в своей вечности, например, всеобщего христианства человечества, ожидание Левы наполнено бездействием, порожденным страхом и непреодолимостью судьбы.
В знаменитой работе «В ожидании конца» британский литературный критик Фрэнк Кермоуд (John Frank Kermode), взяв за основу Священное Писание, исследует источник страха человеческого сердца. Он исследует то, как люди интерпретировали идею конца света в соответствии со своими потребностями в разные периоды истории и как функционируют их вымышленные концовки, символизирующие смерть. Люди делают всевозможные предсказания о наступлении конца. Переживания неудачных пророчеств о конце света в раннем христианстве, затем рождение тысячелетнего мышления, и, наконец, беспомощное ожидание конца, которое может быть даже трансформировано в любую произвольно выбранную эпоху. Все стремятся построить гармоничные отношения между идеальным началом и концом, и все они благочестиво исследуют смысл в середине процесса жизни и смерти. Созерцание человечеством идеи конца света ничем не отличается от созерцания автором структуры романа: все они проходят, имеют начало, середину и конец.
Конец «божественной линии», которого ждет Лева, – это безвозвратный конец, который А. Битов описывает еще в начале своего романа. Ощущение кризиса – это неконтролируемый страх оказаться посреди жизни и смерти. Страх Левы последователен, как и во второй части последовательное беспокойство Левы о предательстве. Фраза «быть или не быть» вполне объяснима в целостной повествовательной структуре романа. Подобно монологу Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос», фраза «быть или не быть» может стать универсальной формулой для «Пушкинского дома». Опасения Левы перерастают в страх, что наглядно показано в главе «Дуэль»: «Каким дробным ужасом оборачивается отсутствие страха божьего!.. В страхе я находился – в страхе и нахожусь. Ведь страшно то, что я так страшился и чего! Вместо Бога – милиционера бояться!» [Там же, с. 287–288]. Всегда существовали предположения и ожидания о конце света, так с чего же начать вычисление более удовлетворительной даты конца света? С распятия, рождения или гонений Иисуса? Фрэнк Кермоуд поддерживает утверждение, что разногласия по поводу того, как вычислять конец, «не имеют ничего общего со временем <...>, но мы навязываем их истории, превращая ее в бесконечный календарь че- ловеческих тревог» [10, с. 10]. Страх Левы перед временем, когда не будет Бога, когда гражданская полиция займет место Бога, и его тревога – это проекция «разрыва времени», пережитого А. Битовым.
Кризис, тревога или страх помогают Леве найти тот самый конец – дуэль и даже разрушение и восстановление музея. Если дуэль вызвана тем, что Митишатьев разбивает посмертную голову Пушкина, то одна из внутренних причин такого резкого изменения сюжета – инстинктивный способ Левы справиться с чувством кризиса, а сама дуэль становится выражением внутреннего кризиса Левы. С точки зрения последовательного ощущения кризиса Левы дуэльный сюжет не является традиционной для романа сюжетной мутацией, а представляет собой последовательную внутреннюю гармонию, причем внутренняя гармония текста – это именно та художественная сфера, к которой стремится писатель Битов. «Остается одно: жить естественно. Что Пушкин и делает и всю жизнь, и каждую секунду. Он изо всех и из последних сил сохраняет естественность поведения в усугубляющейся неестественности чудовищной ситуации» [5, с. 229]. «В волшебном зеркале Бога все свободно от противоречий и путаницы» [10, с. 4]. Круговая структура, образованная наложением пролога и эпилога романа, представляет собой стремление к гармоничному первому и последнему эху. Кропотливая работа Битова по поддержанию гармонии прослеживается и в оглавлении романа. В бесчисленных деталях А. Битов ищет формальное соответствие и гармонию с библейскими числами, такими как три и семь. Роман состоит из семи глав, третья часть содержит три эпилога, собрание состоит из семи человек. В научной статье Левы появляются три пророка.
«Человеческие существа, находящиеся в середине, всегда должны стремиться к созданию модели завершения, потому что она обеспечивает завершение, делая возможным удовлетворительные и гармоничные отношения между началом и серединой. Вот почему образы, связанные с концом, никогда не могут быть отброшены раз и навсегда. Однако, будучи трезвым и здравомыслящим, человек чувствует необходимость проявлять должное уважение к истине. Таким образом, нужно не только продолжать модифицировать свою схему ради достижения контроля, но и ради фактов» [Там же, с. 16]. Одна из художественных прелестей «Пушкинского дома» заключается в диалектическом и совершенном единстве гармонии и диссонанса: с одной стороны, автор стремится сохранить в романе красоту гармонии, с другой – нарушить читательское ожидание эстетики гармонии. И диссонанс трех концовок третьей части романа резко контрастирует с читательским ожиданием. Затянутая концовка связана с воскрешением Левы после смерти, воскрешение нарушает гармонию текстовой структуры. После этого А. Битов собирался написать комментарий к роману от имени Левы, но в итоге добавил комментарии в 1971 году. Это отношения между обычными вещами и людьми, а также между людьми, возникшие в ту эпоху, и еще комментарий к сборникам и стихам, которые являются аргументами в пользу того, что структура романа не закончена. Конец света теряет свое детское ощущение близости, ожидание завершения страдает от отрицания, а наши вымыслы отошли от упрощенных парадигм и стали более открытыми. Время Второго пришествия Иисуса Христа скрыто от нас, но Лева действительно воскресает, хотя и не как литературный герой, а как самостоятельное существо в реальном мире. Это воскрешение становится возможным именно благодаря эпизоду дуэли, без которого за смертью не последовало бы воскрешения, так же как Иисус Христос не воскрес бы через три дня без распятия. Таким образом, эпизод дуэли может показаться резким, но это необходимый художественный прием, на который А. Битов идет ради полной гармонии повествовательной структуры.
В то же время «Пушкинский дом» не является художественным произведением, полностью определяемым своим финалом, он движется между предопределенностью концовки и автономностью текста, которая не зависит от воли автора и отчасти связана с участием читателя в интерпретации текста. Все главы «Пушкинского дома» соответ- ствуют программе средней школы по русской литературе и сами по себе являются соответствиями и символами. Венедикт Ерофеев в романе «Москва – Петушки» пытается найти соответствия между названиями глав и названиями станций от Москвы до Петушков. В постмодернистской литературе, которая обычно ищет соответствия или контрапункты, легко понять соответствие произведений Библии и идее конца света. Красота истории в том, что, начавшись, она неизбежно движется к своему концу. Иными словами, это модель мира с началом, серединой и концом, и эти истории происходят в модели мира или под ее влиянием, которая представляет все временные периоды и наполнена каждым моментом, происходящим в середине начала и конца. Автор «Пушкинского дома» сплетает сложную сеть слов и образов, и не будет преувеличением сказать, что многочисленные детали, представленные в этой текстуальной сети, тщательно проработаны, а всеохватывающая, многогранная интерпретация читателя обогащает литературный сюжет от начала и до конца романа, придавая всему произведению богатую, полноценную эстетическую ценность.
Влияние идеи всеобщего воскрешения Н. Федорова
Эсхатология А. Битова имеет глубокие культурные корни. Когда его спрашивали, кто из русских мыслителей оказал на него значительное влияние, он ответил: «Кто, пожалуй, все-таки питает, так это Николай Федоров. И питает странно. Никто его не читал, и на всех он повлиял. На Толстого, на Достоевского. Достаточно запаха... Идея воскрешения мертвых – одна из самых работающих идей» [2, с. 34].
-
Н. Федоров не был широко известен как русский философ XIX века, но он оказал влияние на многих известных философов и литераторов, таких как Н. Бердяев, Л. Толстой, А. Платонов и М. Горький. В двухтомном сборнике «Философия общего дела» идеи Федорова о воскрешении мертвых включают в себя, помимо религиозной сферы, такие аспекты, как семейные отношения, кладбище, музей и регуляция природы. Он выступает за воскрешение сына к отцу, воскрешение живых к мертвым, за всеобщее воскрешение помимо воскресения Христа, а также признает силу практического действия и неотделимость своих теорий от практической жизни. Смерти следовало бояться. Но в то же время ее можно было победить с помощью воскрешения мертвых. В условиях общественного развития того времени эта идея была равносильна несбыточной мечте, но с развитием науки и техники, например, с исследованием генетической наследственности человека и применением технологии клонирования некоторые из пророчеств Федорова стали реальностью. «Если бы человечество объединилось братски для общего дела осуществления истины христианства, для воскрешения всех умерших, то человек и весь мир вошли бы в вечную жизнь, не претерпев катастрофы конца света и Страшного суда» [11, с. 266]. Бердяев развил теорию воскрешения Федорова, подчеркнув более высокую значимость воскрешения по сравнению со смертью и одновременно утвердив смерть. Помимо воскрешения Левы, Битов применяет теорию воскрешения в форме литературной метафоры. Это воскрешение Левой своих предков, включая воскрешение отца Левы и деда Одоевцева, а также воскрешение разума деда.
В первой части романа описывается косвенный опыт из детства Левы, связанный со смертью другого. Он любит читать газетные статьи, в которых чтят память ученых, – спонтанное детское предпочтение, которое, кажется, выходит за рамки наших ожиданий, хотя он вырос в так называемой «академической» атмосфере и имел доступ к многообразным видам академической науки. Лева не боится смерти, а приветствует ее, потому что он имеет дело со смертью других, а его собственная дата смерти еще далека. На этом этапе жизни он полностью осознает свое существование и долгую жизнь, которая вот-вот начнется, и способен создать множество детских фантазий, хотя и не может предвидеть, что его собственная жизнь резко оборвется на примерно тридцатом году жизни.
Смерть и похороны деда Одоевцева сначала оказывают более сильное влияние на представление Левы о жизни и смерти. Существование человека определяется не наличием или отсутствием физического тела, а факторами вне физической жизни. Для семьи Левы это обстоятельства времени, в котором они жили. Это тактика выживания интеллигенции в тоталитарную эпоху, степень эгоизма человека и степень лицемерия воспитания. Эти причины делают повторное появление деда фактом, свалившимся с неба, а его повторное появление для Левы – как воскрешение, заставляющее не упустить ни одного связанного с ним намека. Как, спрашивает Федоров, можно вернуть к жизни мертвых? «Самое главное – пробудить в детях и внуках чувство любви и нравственной ответственности за своих предков. Это и есть нравственная предпосылка бессмертия» [12, пролог]. Стратегия Левы по воскрешению деда отражается в его попытках найти фотографии деда, а также в изучении, поиске, компиляции и публикации его трудов. Кроме того, фантазия Левы о воскрешении деда проецируется на его близкого соратника, дядю Диккенса, в котором он пытается найти сходство между ними, в том числе сравнивая сцены их похорон.
Для Левы его дед является дедом только в смысле родства, тогда как дядя Диккенс вовлечен в реальный опыт Левы, и он настоящий дед, с которым протекала жизнь Левы. Под влиянием идеи воскрешения Федорова, Бердяев разделяет смерть на смерть класса и смерть личности: «Класс знает свое бессмертие. Только для индивидуальности, с ее точки зрения, смерть глубока и трагична» [11, с. 260]. Согласно этой точке зрения, существует разница между отношением Левы к деду с точки зрения класса и к дяде Диккенсу с точки зрения личности. «Никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым, никто не пришел к человеку, что-то когда-то написавшему, и скорбь походила на воодушевление по поводу, что он никогда уже ничего больше не напишет» [3, с. 89]. «В общем, у Левы впервые умер родной человек. С дедом все было не так: там смерть была заслонена энтузиазмом рождения великого человека. За величие всегда взимается эта плата – человеческое отношение. Никого не интересовало, что дед был человеком. Дед был дельфином, кем угодно, но не человеком. С дядей Диккенсом же было наоборот: ничего, кроме человека, в нем не умерло, но и ничего не осталось после, ничто не рождалось, и эта пустота между смертью и рождением ничем не заполнялась, была невосполнима» [Там же, с. 91]. Смерть деда представляет собой физическое исчезновение ученого и интеллектуального класса, что автор называет уходом деда как «символом». Смерть дяди Диккенса представляет собой смерть обычной, но живой физической личности, и осознание утраты поистине достойно того, чтобы называться любовью и горем человеческой природы, глубоко трагичным и непоправимым.
Федоров выступал за активную трудовую практику, гармонизацию действия и мысли. Именно во время встреч с дедом активизировалась работа Левы по воскрешению деда, через эти встречи Лева получил возможность воскресить свой разум и духовность. Идея воскрешения Федорова отличалась от традиционной христианской идеи воскресения, и он назвал свое учение «новым воскресением». Основной смысл воскрешения – это деятельность по возвращению к жизни отцов и предков в отличие от привычного воскрешения, и это не воскрешение некоторых людей, которое зависит от воскресения Иисуса, а воскрешение всех людей. Вместо того чтобы воскресить некоторых людей воскресением Иисуса, все будущие поколения могут совершать действия по воскрешению своих предков для достижения всеобщего воскрешения.
Встреча Левы с дедом – один из тезисов, которые с интересом исследуют критики. Наиболее разработанными являются взгляды и пророчества деда как духовного аристократа рубежа XIX–XX веков на природу, общество, русскую культуру и т.д. Но они, как правило, сосредоточены на конкретном моменте или аспекте дедовской мысли, не составляя глобального взгляда. Монолог деда как представителя той же интеллигенции XIX века имеет много общего с тезисами, волнующими Федорова. Оба они величе- 168
ственны и всеобъемлющи в своем мышлении, считая, что между всем сущим нет абсолютных границ, а есть взаимопроникновение и противоречивый симбиоз. Федоров утверждает, что разумный человек господствует над природой, регулируя ее слепые силы в животворящие, а дед Одоевцев выступает против хищнического потребления природы, призывая: «Тогда задача разума – успеть во что бы то ни стало, до критической точки (необратимости) разорения Земли прогрессом, развенчать все ложные понятия, остаться ни с чем и внезапно постичь тайну... Тут происходит революция в сознании – и земля спасена» [Там же, с. 67]. В решении вопроса о государственном устройстве между ними есть существенное различие. Федоров считает, что авторитарный строй соответствует первобытному состоянию общества и отвечает историческим условиям России, поэтому это разумный строй, но Россия выбирает западную модель, которая ей не подходит, и он призывает к «общему делу», чтобы двигаться к идеальному обществу, полному родства и любви. Дед Одоевцев выступал за народ против диктатуры и сожалел о потере независимости и свободы, сам того не осознавая: «Вы будете читать «Улисса» в 1980 году, и спорить, и думать, что вы отвоевали это право... Это я вам говорю во «второй половине пятидесятых», – а вы проверьте. Тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать. Джойсу будет более дозволена ваша современность, чем вам» [Там же, с. 73]. Однако он все еще верит в будущее общество, что связано с его идеей сохранения культуры. Эту идею деда Одоевцева прекрасно иллюстрируют рассуждения теоретика литературы постмодернизма Курицына о двойственности культуры, который утверждает, что культура должна пройти через конец, прежде чем стать классикой, и что конец культуры означает потерю смысла. Действительно, диалектическое осмысление культуры давно воплотилось в размышлениях Федорова о музеях. «Надо заметить, что презрение к тому, что отправляется в архив, необоснованно, и что это явление происходит потому, что наше время совершенно утратило способность признавать свои собственные недостатки. Если бы она не была утрачена, то передача в музей считалась бы не только не позором, но и честью» [13, с. 226]. Таким образом, идея музея подразумевает культурный дуализм презрения и уважения, и здесь дед опирается на мощную духовную ценность произведений Джойса, чтобы в какой-то мере снова развить культурную диалектику Н. Федорова. В идейном столкновении деда и Н. Федорова Лева играет роль посредника. Он приходит к деду с априорным представлением о том, что «дед любит внуков, а внуки уважают деда», и проходит крещение идеями деда, которое, с одной стороны, ниспровергает ложные понятия, привитые ему отцами, а с другой – воскрешает суть идей деда. К. Мамаев заметил: «Битов проявил, скажем прямо, известную силу, написав прозу деда как бы свыше своих собственных возможностей» [6, с. 90]. Та часть мысли деда Одоевцева, которая неподвластна Битову, перекликается и контрастирует с мыслью Федорова, а суть его мысли полностью воскресает в присутствии Левы.
Воскрешение слова
Понятие воскрешения в постмодернистской литературе усиливается иногда с непостижимой игрой языковых формулировок, таких как «У сына родился отец. У внука рождается дед» [3, с. 49]. Внук, рождающий деда, здесь явно означает не рождение физического человека, а идею и дух деда. Они наследуются, передаются и проявляются через усилия внука. Именно Лева составил эссе деда Одоевцева «Сфинкс» (приложение к третьей части) и передал его автору, который затем получил возможность опубликовать его, а «Сфинкс» сосредоточен на уникальной философии воскрешения слова.
Эссе «Сфинкс», написанное в конце романа, имеет непосредственное отношение к роману в целом, поскольку является размышлением о стихотворении Блока «Пушкинскому Дому». Одна из основных тем философских размышлений в эссе – тема вульгаризации и материализации слова, превращения его в продукт народного просвещения и товар, представленный в виде лексикона, когда такие сочетания, как «милый Чехов» 169
и «сложный характер Горького», сводятся к клише, понятному советской идеологии. Опираясь на символы и смыслы, порожденные литературной традицией, Битов создает в «Пушкинском доме» серию непрерывных игр со смыслами, которые были сведены к клише. Постмодернистский смысл деконструкции, воплощенный в игре названий, имен и цитат, включая деконструкцию мифа о духовном учителе классической русской литературы во главе с Пушкиным и деконструкцию понятия советского сознания, – все это аспекты восприятия слова в произведении. Кроме того, Битов как наследник русской традиции понимает слова не только как знаки, но и как действия. В свою очередь, действия у Битова ассоциируются с постмодернистской идеей молчания.
После первой части романа дед Одоевцев рассказывает Леве об идее сохранения культуры: «И авторитеты там замерли нисвергнутые, неподвижные: там все на том же месте, от Державина до Блока» [Там же, с. 68]. В конце романа дед Одоевцев вновь говорит о сохранении классической русской культуры: «Связи прерваны, секрет навсегда утерян... тайна – рождена! Культура остается только в виде памятников, контурами которых служит разрушение. Памятнику суждена вечная жизнь, он бессмертен лишь потому, что погибло все, что его окружало. В этом смысле я спокоен за нашу культуру – она уже была» [Там же, с. 348]. Идеи «Сфинкса» легко напоминают Шкловского и символистов, таких как Блок и Белый. Как и у символистов, Сфинкс у Битова олицетворяет великое молчание, пустой энергетический знак, не способный выразить истинный смысл, и тем самым становится символом ложной смерти русской культуры. В связи с теорией карнавализации советского литературоведа Бахтина, неопределенность смерти и воскрешения может служить одной из мировоззренческих основ карнавализацион-ного ритуала коронации. В романе также отчетливо проявляется некоронация русской культуры, а разрушение музея служит великолепным эпилогом этой некоронации. Битов, кажется, сознательно намекает на смерть культуры, включая мистическую природу классической русской культуры, ее изолированность от загробного мира и оторванность от идеологизированной реальной жизни.
В третьей части романа, включая главы «Маскарад» и «Дуэль», Битов добавляет больше элементов карнавала, с помощью которого возвращение стереотипов, сбитых идеологией, становится важной мерой для дальнейшего воскрешения, а молчание культуры превращается из состояния сфинкса в состояние феникса, восстающего из пепла. Интересно, что сфинксу противопоставлен феникс, символ вечного воскрешения, означающий надежду, слова, которые «даже если слово точно произнесено и может пережить собственную немоту вплоть до возрождения феникса-смысла» [Там же, с. 350]. Это обосновывает стремление прозы Битова уйти от неистинных значений слов и обрести настоящий смысл. Молчащий «Сфинкс», как символ русской культуры, теряет свой смысл в пустых альтернативных обозначениях; ее смерть означает не исчезновение, а растворение ее глубокого символизма в бессмысленных альтернативных обозначениях. Для Битова молчание представляет собой действие, несовместимое со значением слов, которые не могут выразить смысл существования. Молчание как действие становится одной из главных тем творческой философии Битова, появляясь почти во всех его романах, и эта концепция современного искусства писателя совпадает с метафизическим понятием молчания, которое критики-постмодернисты называют сущностью бытия. Трехчастная структура «Пушкинского дома» и дополнения к основному тексту напоминают циклическую схему мира в мифической форме «Улисса» Джойса, которая выглядит следующим образом: прошлый-Бог-Отец на первом уровне, настоящий-любовь-брак на втором уровне, будущий-смерть на третьем уровне, великое Молчание-Пустота-Транс-формация на четвертом уровне. И такая схема превращается в начало следующего цикла. Резонанс между двумя произведениями не столько в структуре текста, сколько в возвращении модернизма к образцам вневременных культурных традиций. Битов создает в своих романах тайну русской культуры, тем самым конструируется миф о русской культуре и на этой основе сохраняется модернистский образ мира.
Слова в эссе деда Одоевцева опираются на уникальную философию парадоксального молчания и воскрешения в действии, входя одновременно с воскрешением Левы после смерти в царство мистических творений Битова, представленных в «Пушкинском доме». «Повествование о герое инверсировано: это не «жизнь и смерть» Левы Одоевцева, а «смерть» и «жизнь после смерти»» [7, с. 98]. Роман начинается со смерти главного героя, что позволяет ему получить ранний доступ к отсутствию реального существования. Для концовки романа смерть главного героя часто трагична. «Лева-человек – очнулся, Лева-литературный герой – погиб» [3, с. 316]. Здесь автор осуществляет тонкую трансформацию личности Левы, и воскресший Лева обретает реальное существование как живой человек, пересекающийся с автором в сфере опыта. Эпизод воскрешения Левы можно сравнить с китайской классической оперой «Пионовая беседка». Ду Ли-нян, воскреснув из мертвых, все еще выступает как персонаж оперы, навечно связанный с Лю Мэнмэем, и оба они не вырвались из-под абсолютного авторского контроля и не могут обрести синхронное настоящее время с автором; однако личность Левы после его воскрешения претерпевает еще больший переворот. Превращение Левы из литературного героя в реального человека означает его выход на другой, совершенно новый уровень. Он обретает право жить в одном пространстве и времени с автором и, таким образом, переходит из мистического царства литературного творчества в пространство опыта с потоком реальной жизни.
Теоретик постмодернизма Эпштейн еще в 1970-е годы обозначил две важные категории битовского творчества, написав в эссе «Время самопознания»: «Тайна» и «опыт» – так назвал бы я центральные категории битовской этики и поэтики. Мир для человека начинается с тайны, с ощущения непонятной, но обнадеживающей значительности жизни. Постепенное исчезновение тайны, привыкание к миру и все более легкое, как бы уже повторное узнавание его образует тягостную, хотя поначалу и желанную осуществлен-ность жизни – сумму житейского опыта. Но может быть и обратное соотношение «опыта» и «тайны», когда человек неожиданно для себя переступает и границы знакомого мира, оказавшегося вдруг бедным и малым, и открывает для себя таинство еще не прожитой жизни» [8, с. 227]. Сборник «Статьи из романа», изданный в 1986 году, содержит эссе «Черепаха и Ахиллес». Оно было закончено в 1982 году как адаптация и дополнение к сопровождающему эссе «Ахиллес и черепаха» в третьей части «Пушкинского дома». А. Битов цитирует отзывы читателей на «Ахиллеса и черепаху». В одном из писем читатель утверждает, что фигура Левы существует в обычных людях, в котором автор более подробно останавливается на соотношении литературного и живого героя. «Литературный герой есть памятник человеку живому, реальному, такому, какой есть, такому, как мы с вами, обычному человеку, сложному самой высокой и глубокой сложностью, равновеликой гению его создателя, – памятник человеку, великому в подвиге существования на земле» [5, с. 165]. Как видим, мистическое и эмпирическое в художественном мире А. Битова неразделимы. А. Битов опирается на комментарии своих читателей, чтобы продолжить исследование этого вопроса.
Изучая литературное произведение, мы часто доказываем, что данная книга действительно посвящена жизни персонажа или какому-то более абстрактному вопросу. Мы основываемся на идее, что литературное произведение имеет законченную концовку, которая дает читателю уверенность в точной интерпретации произведения. Завершенная концовка дает читателю уверенность в том, что произведение может быть истолковано точно. В конце романа обычно рассказывается о том, что происходит с выжившими, как это принято в традиционной литературе. «Пушкинский дом» тоже нуждается в финале, и воскрешение Левы в конце делает произведение необычным. Как художественное произведение, сохранившееся для последующих поколений, все истины, 171
содержащиеся в «Пушкинском доме», равно как и его недостатки заключены в начале и конце. В любом случае конец света нужен для создания необходимого ощущения законченности, так же как конец – это необходимая граница в литературе, без которой нет разницы между литературой и жизнью. Конец света слишком долго ждут или даже отрицают, все равно он является моделью вымышленного мира, к которой старательно стремятся такие произведения, как «Пушкинский дом», являющийся отличным примером такой модели мира.
Таким образом, постмодернистское эсхатологическое повествование Битова имеет три уровня значимости. Во-первых, «Пушкинский дом» действительно соединяет мистическую и эмпирическую сферы творчества А. Битова, а взаимодействие сферы опыта и сферы творчества порождают загадочные и сложные литературные приемы. Во-вторых, А. Битов литературными средствами осмысляет и развивает идеи Н. Федорова о воскрешении мертвых. В-третьих, «Пушкинский дом» с его началом, серединой и концом имеет сходство со структурой Библии. Не будет преувеличением сказать, что эсхатология А. Битова продолжает традиции эсхатологического повествования, оказавшего огромное влияние на развитие всего человечества.