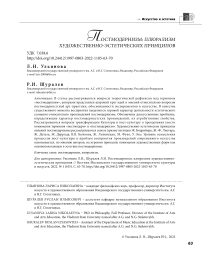Постмодернизм: плюрализм художественно- эстетических принципов
Автор: Ульянова Л.Н., Шуралев Л.И.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусство и эстетика
Статья в выпуске: 1 (105), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы теоретической рефлексии над термином«постмодернизм», авторами представлен широкий круг идей и мнений относительно вопросов постмодернистской арт-практики, обоснованности экспериментов в искусстве. В качестве существенного момента восприятия выделяется игровой характер деятельности эстетического сознания относительно произведений постмодернизма. Обозначены дискуссионные проблемы, определяющие характер постмодернистских произведений, их атрибутивные свойства. Рассматриваются вопросы трансформации Культуры в пост-культуру и преодоления узости понимания терминов «постмодерн» и «постмодернизм». Художественно-эстетические принципы явлений постмодернизма рассматриваются сквозь призму взглядов Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Делеза, Ж. Деррида, В.В. Бычкова, Ж. Липовецки, М. Фуко, У. Эко. Уровень осмысления процессов пост-культуры и проблем восприятия произведений современного искусства основывается, по мнению авторов, на игровом принципе понимания художественных форм как основополагающем в эстетике постмодернизма.
Постмодернизм, плюрализм
Короткий адрес: https://sciup.org/144162554
IDR: 144162554 | УДК: 7.038.6 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-1105-63-70
Текст научной статьи Постмодернизм: плюрализм художественно- эстетических принципов
Постмодернизм на сегодняшний день до сих пор не имеет определенного вербального выражения, это понятие все еще расплывчато и достаточно обобщенно, но данный феномен культуры, да и всей истории в целом, достаточно хорошо ощущается современным эстетическим сознанием. Арт-практики сегодня, осознанно или нет, но попадают в течение постмодернистских арт-парадигм, что в большой степени свидетельствует о свободных формах репрезентации произведений современного искусства, использовании неклассических и, даже, антиэстетических концепций и компонентов. Использование процессуальных практик в искусстве, создание динамических объектов, акционизм, эн-вайронмент, утилитарность искусства – все это мы можем назвать свидетельством новой культурно-исторической фазы, называемой постмодернизмом.
Для того чтобы попытаться разобраться или, хотя бы, наметить и поставить вопросы относительно постмодернизма, попытаемся определить и выявить значение понятия постмодерн, которое рассматривается в научном дискурсе как социологическая парадигма .
Пре -модерновое общество, общество традиционное, классическое основывалось, как правило, на вере в божественное начало, где бог был как доминирующий аргумент, реализовывавшийся напрямую или косвенно, через систему богословских обоснований. Все «право» априори было божественным и только потом человеческим, хотя и само «человече-
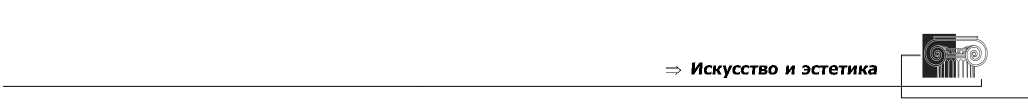
ское» рассматривалось как необходимость божественной воли. В философии принято считать, что конец классического общества обозначил немецкий философ Ф. Ницше, утвердив «смерть Бога», хотя еще задолго до него божественное начало уже подвергалось сомнению, а Ницше в работе «Веселая наука» лишь трагически засвидетельствовал его «смерть» [9].
Модерн, как пришедшая на смену старой эпохи парадигма, узаконил «право» за человеком и поставил его в центр мировосприятия; все стало человеческим, рациональным, все основывалось на рациональном эксперименте, все стало субъект-объектным. Отрицание Бога и вера в «субъект» и «объект» - явная характеристика модерна. Но, как было и к концу пре-модернового общества, в середине XX столетия эти два концепта были взяты под сомнение. Субъект с такими характеристиками, как воля и представление, объект, вопрос о первичности того или другого в постмодернистской парадигме исчерпывают себя; современные философы утверждают, что субъекта и объекта больше нет. Из вышесказанного вытекает вопрос: что становится на их место? Современное общество находится в так называемой транзиции, транзитивной фазе между модерном и чем-то другим, к чему, в конечном счете, приведет постмодерн. Тем самым, мы выводим, что постмодерн – это фаза перехода, в которой лишь ставятся под сомнение субъект-объектные отношения, но взамен им на данный момент еще ничего не найдено. Возможно, это будет текст, контекст, матрица, виртуальный мир или что-то другое, что формирует на двух сторонах «субъект» и «объект», но предшествует им. Такая парадигма уже принята в современном научном дискурсе и нет ни одной гуманитарной науки, которая бы не имела в себе раздела о постмодерне. Так и культура, являясь важной компонентой жизни общества, вбирает в себя постмодернистские веяния и охотно применяет их в арт-практиках [11].
Французский философ Ж.-Ф. Лиотар в своей работе «Состояние постмодерна» высказал важный тезис, с которым в последующем будут связывать представление о постмодерне и с которым эти представления связываются до сих пор сегодня. Для него постмодерн – это «исчезновение метанарративов» , или, по-другому, «больших рассказов», которые представляют собой некие объяснительные формы, определяющие историческое и интеллектуальное движение и развитие. Такими формами могли являться религия, капитализм, марксизм и т.д., но для философии постмодерна это становится неактуальным. Постмодернизм, как связная компонента в постмодерне, но не тождественная ему так и или иначе тоже высвобождается из-под влияния «великих нарративов»; искусство переходит в стадию « свободной непричастности» [6] .
Как пишет отечественный философ и специалист в области эстетики В.В. Бычков, постмодернизм понимается как «наслаждение от игры во всех сферах бытия и сознания» [3, 415]. Такая игра имеет исключительно эстетические качества. Эстетический опыт, возвращение к которому происходит на ином уровне, без использования классических ракурсов прекрасного и возвышенного, свободно применяет маргинальные паракатегории, такие как телесность, жестокость, вещь, повседневность, деконструкция и мн. др. Утверждение релятивизма, расшатывание традиционной философско-культурной системы, осознанное симулирование в сферах традиционного философствования, разрушение концепций Культуры, которая сейчас помещается в арт-пространство в совершенно других фор- мах и значениях, создание из обломков Культуры новых арт-объектов, в конечном итоге, должно доставить реципиенту, включенному в сообщество постмодернистов, эстетическое наслаждение [3].
Как заявляет Ж. Деррида, характерной чертой постмодернизма является текстуальность, где каждый текст состоит из текстов, знак – из множества других знаков. Ж. Деррида пишет, что «вне текста не существует ничего» [5, 54].
Такие тезисы и понятия, как «смерть автора», принцип «методологического сомнения», симулякр довольно плотно вошли в философию и искусство и активно используются в постмодернистских практиках.
Еще одной характерной особенностью постмодернизма является, по свидетельству Ж. Бодрийяра в работе «Общество потребления», «открытие тела», проявление всепроникающей телесности . Тело сегодня «принадлежит» человеку, в отличие от традиционного пре-модернового общества, и приобретает функции и качества объекта, которому поклоняются, эротизируют, обнажают и доводят до степени «главного объекта потребления» современного постмодернистского общества [2].
Такое потребление, в конечном счете, приводит к тому, что человек определяет и видит смысл своей жизни в удовлетворении своих потребностей, как низменных физиологических, так и интеллектуальных. Исходя из вышесказанных предположений, французский философ Жиль Липовецки полагает, что главной ценностью современной культуры становится гедонизм, и постмодернизм выглядит как его «демократизация» [7]. Такой процесс не случаен, он является своего рода реакцией на «закат» модернистского авангардного бунтарства, и, как следствие, – господство наслаждения, стимуляции ощущений, антиморали и антиинституционализма. По словам Ж. Липовецки, такая гедонистическая пропаганда начинается в 1960-е годы XX века, как раз во время, как принято считать, расцвета постмодернизма. Антикультура, субкультура, контркультура, мода на наркотики, сексуальная свобода, массовое распространение порнографии, «смакование насилия и жестокость в спектаклях» [там же] - результат нынешней постмодернистской «галлюциногенной» культуры, которая всячески демократизирует радикальную тенденцию к поощрению самых низменных наклонностей.
«Революция потребления», сегодня набравшая обороты и широко развернутая в обществе, наконец, практически достигла своей главной цели – высвобождение человека из-под нарративной диктатуры модерна. Человек становится более открытым для восприятия нового, он почти без сопротивления готов менять свой привычный образ жизни, стал «кинетичным» и, вместе с тем, в мире рекламы и вещей индивид утрачивает свою весомость. Выдвинутый М. Фуко тезис о «смерти субъекта», обозначает потерю человеком своей самоидентичности, основанной на фундировании личностной автономии, самосознания и саморефлексию, тем самым индивид как субъект лишается своего привилегированного статуса [10]. Субъект в своем картезианском понимании мог существовать только при наличествовании «принуждения» и «сопротивления» последнему; культура постмодернизма освобождает человека от сопротивления, тем самым уничтожая самого субъекта. Нарциссическая концепция современного общества, где человек теряет самого себя в погоне за удовольствием и удовлетворением своего собственного Ego, в конечном счете, приводит к тому, что он становится
более «пластичным», пассивным и, в тоже время, открытым ко всему, что преподносит ему современная культура.
Первыми «противниками» догматической культуры модерна в 50-60-х годах, как принято считать, становятся представители субкультуры хиппи. Так, по мнению Д. Белла, постмодернизм является логическим продуктом яростного сопротивления пуританству массовой эротическо-порнографической культуры, зачинателями которого становятся пропагандисты свободной любви середины XX столетия [1].
Конечно, это отнюдь не означает исчезновение человечности, моральных принципов и нравов; сосуществование жестокости и толерантности, максимализма и минимализма, появление «столько же сторонников секса, сколько и его противников» [7, 174] говорит о синкретичности и эклектичности постмодернизма сегодня.
Постмодернизм, названный В.В. Бычковым «умудренным опытом «старцем»» [3, 405], вмещает в себя все культуры сразу, затейливо перетасовывает их между собой, ничего не создавая нового, трактует и перефразирует классические образцы искусства, накладывая на них отпечаток поп-арта, массовой культуры и коммерции. Современный исследователь классического «текста», как правило, не останавливается на буквальном, исторически сложившимся понимании; он «деконструирует» его, открывает в нем новые, «иные» смыслы, о которых, возможно, и не догадывался сам его создатель. Такой способ чтения «текста» и философствования Ж. Деррида называет «деконструкцией». Заимствуя у М. Хайдеггера разрушительное понятие Destruktion, переосмысляя понимание деструктивности у Ж. Лакана, философ-постмодернист выводит деконструкцию в негативном и позитивном смыслах. Первый включает в себя разрушение классического пласта традиционного искусства посредством обнищания современной пост-культуры; второй же, напротив, предполагает создание новых, эксклюзивных арт-практик через переработку «старых» образцов искусства [4].
Важным местом в концепте деконструкции является цитирование, или, по-другому, интертекстуальность с принципиальной потерей изначально заложенных смыслов. У. Эко пишет, что «сюжет может возродиться под видом цитирования других сюжетов, и ... в этом цитировании будет меньше конформизма, чем в цитируемых сюжетах» [12, 211].
Сам У. Эко полагает, что постмодернизм не является фиксированным хронологическим явлением; мыслитель определяет постмодернизм как некое «духовное состояние», «огонек» которого разжигался в разные эпохи [13]. Сложно не согласиться с мнением ученого, так как начало расцвета постмодернизма регулярно сдвигается на десятилетия назад. Если к концу XX столетия считалось, что новая социокультурная парадигма стала порождением 50-60-х годов, как мы и писали об этом ранее, так как в научных трудах именно эти годы зафиксированы исследователями как эпоха «заката» модерна и «рассвета» новой культуры и философии, то современные научные и околонаучные работы определяют рождение постмодернизма чуть ли не в начале прошлого столетия.
Этот «огонек» постмодернизма в более ранние культурные эпохи, как считает У. Эко, является порождением кризиса этой самой эпохи: истощение литературы, потеря ориентиров в духовных исканиях, гибель устоявшихся принципов философствования, неопределенность векторов развития общества, доходящая вплоть до смакования горечи по утраченным идеалам, воздвижение упаднических идей, разрушительно-прекрасная тяга к развращенности и деструктивным художественным, текстуальным, сексуальным и социальным экспериментам и бунтарству. Попытка сделать анализ таких кризисов, уже встречавшихся истории человечества, приведет нас к многочисленным примерам и находкам в области культуры и искусства: Маркиз де Сад с его сексуально-гедонист-ской философией в период кризиса Франции во время Великой революции; Шарль Бодлер с его декадентскими воспеваниями уродства, греховного вожделения и смерти, и многое другое. Такая принципиальная маргинализация, прошедшая сопротивление со стороны пуританского общества, закалившись в холоде тюремных стен (Жан Жене), к середине XX столетия заявила о себе громогласным криком. Сошлось слишком многое, чтобы постмодерн впитал в себя и, главное, принял этот крик и определил его как принципиально важную особенность и «норму» современной культуры.
Результатом такого «принятия» становится эстетизация ранее почти не признаваемых явлений культуры: телесность, жестокость, эротизм, садизм, мазохизм и т.д. Безусловно, важно влияние фрейдистской и постфрейдистской философии на формирование и оформление подобных категорий в качестве главенствующих понятий пост-культуры. Примерами подобного могут послужить сотни произведений искусства, ставших сегодня уже чуть ли не «классическим» достоянием культуры – это У. Берроуз, Э. Гибер, М. Уэльбек, И. Уэлш в литературе; Ф. Озон, Л. фон Триер, П. Гринуэй, П. Пазолини в кинематографе; М. Пауэл, У. Барлоу в живописи; А. Серрано, Р. Гибсон в инсталляционном искусстве; Элис Купер, Мерилин Мэнсон, Sex Pistols в музыке.
Постмодернизм старается отвечать всем чаяниям современного человека, но существует мнение о том, что он перестал хорошо справляться с этой глобальной задачей. Как отмечает Адриан Сёрл, «постмодернизм мертв, но на его место пришло нечто другое, неизмеримо более странное» [8, 44]. Это мнение поддерживают Робин ван ден Аккер и Тимотеус Вермюлен, называя пришедшую на смену постмодернизма парадигму «метамодернизмом». Такие выводы актуальны для мыслителей XXI века, хотя стоит заметить, что далеко не все придерживаются мысли о «гибели» постмодерна. Отечественный философ А. Дугин полагает, вероятно, в опоре на мнение Ю. Хабермаса в работе «Модерн – незавершенный проект», что модернизм еще не исчерпал себя, и культура только начинает входить в постмодернистскую парадигму, оставляя за собой огромное количество нерешенных вопросов [14].
Еще одну интересную трактовку понятия постмодернизма выводит А. Думитреску, выделяя три основных принципа постмодернизма: «связность (как образ мышления), петлеобразное движение (как принцип определения связей) и закон теории наложения» [8, 48].
Как мы можем заметить, термин «постмодернизм» настолько релятивный, что способы его словесного выражения и определения сильно различны между собой, не говоря уже о том, что постмодернизм до сих пор, спустя более чем полвека, подвергается сомнению относительно способов его существовании и актуальности сегодня. Но, не смотря на это, постмодернистские принципы и догмы существуют в культурных пластах современного общества и оказывают сильное влияние на художников, критиков, философов и, непременно, на самого зрителя, реципиента.
Можно предположить, что существование произведений современного искусства
в поле постмодернистских арт-практик возможно исключительно через феномен игры как базового концепта современной культуры. Сосуществование в одном произведении проявлений низменных и высоких форм, противопоставляющихся друг другу ценностей и смыслов является, на сегодняшний день, актуальным приемом репрезентации произведения. Не основанные на базисных принципах искусства, не осмысленные через призму семантики и глубинного содержания, не вовлекающие реципиента в ткань художественных образов, идей и символов, арт-объекты сложно подпадают под термин «искусство». Именно наличие в произведении разных текстовых и интертекстовых структур, деконструирующих сам «текст» на основе различных игровых пластов, свидетельствуют о причастности того или иного арт-объекта к сфере искусства.
«Истощение» современной культуры, как полагают исследователи, вовсе не говорит об оскудении художественно-эстетических приемов. Напротив, осмысленное «повторение» классических текстов, их перемешивание, добавление иных, изначально незаложенных смыслов, создание из обломков старой Культуры новых артефактов пост-культуры, как нам кажется, способствует, во-первых, продолжению «жизни» классических форм искусства и их арт-объектов, а во-вторых, обогащению современных произведений в лоне массивного традиционного пласта, что позволяет реципиенту вовлекаться в игру и находить эстетическое наслаждение в движении сознания сквозь ткань грамотно наложенных и интегрированных друг-в-друга «текстов» произведений постмодернизма.
Список литературы Постмодернизм: плюрализм художественно- эстетических принципов
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — Москва: Академия, 1999. - 451 с.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. - Москва: Издательство АСТ, 2020. 320 с.
- Бычков В. Эстетика: учебник. - Москва: КНОРУС, 2019. 528 с.
- Деррида Ж. Голос и феномен, и другие работы по теории знака Гуссерля. - Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. 208 с.
- Деррида Ж. О грамматологии. - Москва: Ad Marginem, 2000. 511 c.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2016. 160 с.
- Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. - Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2001. 332 с.
- Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма: [ по редакцией Р. ван ден Аккера]. - Москва: РИПОЛ классик, 2020. 496 с.
- Ницше Ф. Веселая наука. - Москва: Азбука, 2015. 352 с.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. - Санкт-Петербург: A-cad. 1994. 408 c.
- Хаустов Д. Лекции по философии постмодерна. - Москва: РИПОЛ классик, 2021. 288 с.
- Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У Имя розы. - Москва, 1989. 468 с.
- Эко У. Открытое произведение. - Москва: АСТ, 2018. 512 с.
- Философия постмодерна [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XMHJk4nnDMo