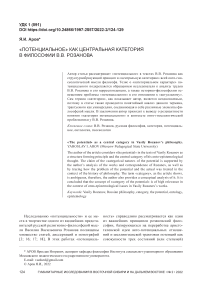«Потенциальное» как центральная категория в философии В.В. Розанова
Автор: Аров Ярослав Игоревич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи рассматривает «потенциальное» в текстах В.В. Розанова как структурообразующий принцип и «центральную категорию» всей онто-гносеологической мысли философа. Тезис о «категориальном характере» потенциального подкрепляется обращением исследователя к анализу трудов В.В. Розанова и его корреспонденции, а также историко-философским освещением проблемы «потенциального» в его отношении к «актуальному». Сам термин «категория», как показывает автор, является неоднозначным, поэтому в статье также проводится понятийный анализ данного термина, трактуемого как универсалия, соединяющая в себе различные элементы философской мысли. В заключении автор приходит к выводу о релевантности понятия «категория потенциального» в контексте онто-гносеологической проблематики у В.В. Розанова.
В.в. розанов, русская философия, категория, потенциальное, онтология, гносеология
Короткий адрес: https://sciup.org/170195086
IDR: 170195086 | УДК: 1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-2/124-129
Текст научной статьи «Потенциальное» как центральная категория в философии В.В. Розанова
Исследованию «потенциальности» и ее места в творчестве одного из виднейших представителей русской религиозно-философской мысли Василия Васильевича Розанова посвящены множество статей, диссертаций и монографий [3; 16; 17; 18]. В этих работах «потенциаль- ность» справедливо рассматривается как один из важнейших принципов розановский философии, базирующихся на переработке аристотелевской идеи акто-потенциальных отношений и шеллингианской трактовки потенций как совокупности трех состояний (или степеней)
бытия: бытия-долженствования, небытия – долженствования и срединного состояния между бытием и небытием [7, с. 22]. Образованная в результате таких модуляций троичная схема потенций перерабатывается Розановым в собственную типологическую структуру с пятью формами «потенциальности», содержащей: 1. материально-определенные потенции; 2. материально-неопределенные потенции; 3. идеально-неопределенные потенции; 4. идеально-определенные потенции; 5. предыдеальные потенции [15, с. 146]. Эти формы закрепляют движение потенций от чисто-материального субстрата к его идеальному и предыдеальному истокам – к образцам конкретных предметов, данных, например, в образе мысли художника, воплощенном им в статуе [15, с. 146]; к условиям бытия этих конкретных предметов (наличие определенного пространства и места для этой статуи) [15, с. 146]; наконец, к общему источнику форм, к кантовским a priori, предсуществу-ющим всякому познанию материальной и формальной субстанций.
Эта классификация потенций, данная в трактате «О понимании» (1886), в дальнейшем становится краеугольным камнем всей религиозно-философской мысли Розанова. Косвенно это подтверждается и самим философом в письме к Э.Ф. Голлербаху от 8 августа 1918 г., где он констатирует: «Невозможно в сущности ничего понять у меня, понять и во мне, не прочитав и не усвоив двух первых глав О понимании, “О сторонах существующего и схемах разума” и “О принципе потенциальности”» [14, с. 355]. Упоминание в одном контексте «схем разума» и «принципа потенциальности» натолкнуло меня на мысль, что «потенциальное», возможно, было не только структурообразующим принципом, но и базовой категорией розановской «теории мышления», поскольку само движение мысли усматривалось им именно как некая незавершенность. Но той же самой незавершенностью обладает любая потенция в силу того, что она есть только потенция, а не актуально существующее. В данной статье я постараюсь доказать релевантность трактовки «потенциального» у В.В. Розанова как особой «категории», центральной для онтологической и гносеологической проблематики его философской мысли.
«Категорический» характер «принципа потенциальности» подтверждается уже самим подходом философа к мышлению: Розанов, если говорить о «зрелом периоде» (поскольку в «ранний период» философ ориентируется на «строгую» классическую немецкую философию), оперирует не понятиями, а «получувствами-полумыслями» [9, с. 85], то есть потенциальными, еще не актуализированными мыслями и потенциальными, еще не актуализированными чувствами. Возможно проследить эволюцию от «Розанова-рационалиста» к «Розанову-сенсуалисту», когда «все, что представлено в разуме, представлено и в чувствах», но данная задача не входит в мои планы. Замечу только, что этот условно «сенсуалистический поворот» не был совершенно внезапным: в трактате «О понимании» уже фиксируется тезис о невозможности с помощью декартовского cogito познать сущность феноменального мира – в нем всегда остается тайна [15, с. 66]. А поскольку в основе данной нам реальности «может лежать нечто … иррациональное, совершенно непостижимое, как бы бессмысленное», значение разума ограничивается только «попыткой» что-либо «помыслить» и «постичь» [15, с. 66].
Таким образом, мысль как «живой поток», не имеющий конечной, фиксированной точки, наделяется онтологическим статусом. В интервью К.И. Чуковскому и П.Б. Струве на вопрос «Cколько можно иметь мнений, мыслей о предмете?» Розанов отвечает: «Сколько угодно… Сколько есть “мыслей” в самом предмете: ибо нет предмета без мысли, и иногда – без множества в себе мыслей» [12]. То есть кроме мыслительной деятельности самого мыслящего субъекта уже в самом предмете, в том числе материальном, существует мысль. В определенный момент потенции разума могут сфокусироваться на этой «мысли предмета» (иначе невозможно было бы в принципе познать хоть какие-то его стороны), но этот момент «фокусировки», по Розанову, имеет скорее суммирующий разнообразные потенции характер, а не их конечную единую актуализацию, поскольку «когда я “кнаружи” засыпаю, – и наступают те “несколько минут”, когда вдруг “сто убеждений” сложатся об одном предмете» [12]. Сложение убеждений с учетом розановского тезиса «сколько угодно мыслей» сильно релятивизирует сферу познания, поэтому его обращение к «потенциальности» является единственным вариантом для сохранения какой-либо системы мышления.
Легко заметить, что подобный подход отличается от классического, где категории мышле- ния действительно фиксируют некие константы. Так, у Канта «категории суть всеобщие и необходимые операции, благодаря которым формируются все рациональные содержания нашего духа» [2, с. 367], они позволяют фиксировать эмпирические явления [2, с. 369]. Ориентируясь на формальную логику, Кант выводит свои категории из субъектно-предикатных отношений, пропозиций, характерных для четко детерминированных суждений.
Ничего подобного у Розанова, разумеется, нет. Даже в трактате «О понимании», самом логически-стройном произведении философа, среди всевозможных схем и определений встречаются отрывки, убеждающие читателя, что в общем-то в мире господствует Тайна, которую не познать. Не говоря уже о более поздних текстах. Это будто бы свидетельствует против категорий у Розанова вообще. Однако, мне кажется важным сохранить это понятие в силу специфического для философа отношения к мыслительной деятельности как суммирующей телесные ощущения и их ментальные репрезентации. Кроме того, само понятие «категория» не является столь однозначным, чтобы с легкостью «отбросить» его [6].
Так, словарное определение категорий в философии дает чрезвычайно широкое поле для спекуляций. Например, в «Новой философской энциклопедии» категории определяются как «фундаментальные понятия, формы мысли, типы связи субъекта и предиката в суждении, устойчивые способы предицирования, существующие в языке, составляющие условия возможности опытного знания и имеющие априорное значение в качестве универсалий и предельных понятий» [11]. По ряду признаков «потенциальное» у Розанова действительно является скорее категорией, чем просто принципом, поскольку, во-первых, является крайне общим и фундаментальным понятием, во-вторых, характеризует связи в суждениях как потенции разума, в-третьих, имеет универсальное значение для всей розановской мысли (о чем, как я заметил выше, упоминает сам философ).
Подход к мышлению как к недетерминированной деятельности потенций разума не был, конечно, абсолютно новаторским и в том или ином виде встречается в философской традиции, например, в «Опытах» Монтеня или в «Мыслях» Паскаля. О схожести этих философских произведений – и содержательной, и формальной – с произведениями Розанова давно известно [19, с. 19]. Также нет ничего необычного в пересмотре классических понятий, освященных традицией. В свое время К. Лоренц уже наделял a priori Канта эволюционно-обусловленным статусом [8, с. 15–41]. В какой-то степени Розанов действует аналогично с кантовскими категориями, переводя их из сферы четко детерминированных рассудочных операций в сферу потенциально изменчивых «мыслей о предмете».
Для Розанова, «потенциальное» – это «ключ к разумению всего – мира, жизни и человеческой деятельности» [13, с. 368]. Онтологиза-ция потенций представлена у философа в виде актуализации «потенциального», как вектор, заданный от возможного к действительному [15, с. 147]. Эта «осуществленность в действительности» коррелирует с тремя формами существования потенций: 1. Потенциальное, существующее только как потенциальное. 2. Потенциальное, реализованное в актуальном. 3. «Образующееся» потенциальное (то, что находится в процессе становления и когда-то станет актуальным) [15, с. 147].
Заметно, что данная типология оперирует понятиями конечной цели (реализации), аристотелевской целевой причины. Движение «потенциального» рассматривается как телеологический процесс не случайно. Это позволяет Розанову, по сути, уровнять действительное и возможное, поскольку действительное когда-то было возможным, а не действительным. Для него и акт и потенция, таким образом, одинаково существуют [15, с. 143].
От онтологизации потенциального Розанов переходит к рассмотрению гносеологической проблематики актов познания, которые, как и любые актуальные процессы, имеют собственные потенции, в контексте теории познания – потенции разума. Сам по себе разум для Розанова «есть потенция, в которой предустановлены формы понимания, материал для которого дается внешним миром, и обладающая скрытою жизненностью, состоящей в стремлении и в способности образовывать это понимание» [15, с. 53]. Характеризуя разум как потенцию и источник «предустановленных форм», Розанов апеллирует к Аристотелю, описывая гносеологическую динамику перехода от осознания разумом цельности самого себя к осознанию конкретных идей, составляющих эту цельность [15, с. 58]. Это идеи «о существовании, о сущности, об атрибутах, о причинности, о целесообраз- ности и т.д.» [15, с. 60], вычленяемые посредством апперцептивной деятельности разумного субъекта. Данная схема апперцептивного познания, подчиняющегося «предустановленным формам» разума, весьма актуальна и в современном мире, например, в когнитивной науке, где любая апперцепция ограничена внутренними структурами познающего нейронного аппарата [10, с. 48].
Дальнейший анализ схем разума в трактате «О понимании» приводит Розанова к уточнению понятия «разум», к его окончательной «потенциализации»: «Разум есть потенция, слагающаяся из потенций идеи существования, состоящей в чистой способности образовывать эту идею, и из сходящихся к ней, как к центру, схем понимания, представляющих собою потенции, обладающие скрытой жизненностью, которая пробуждается с принятием первого впечатления этим центром и обнаруживается в чистом стремлении и в чистой способности образовывать идеи, соответствующие сторонам существующего и в своем сочетании содержащие полное понимание его» [15, с. 62]. Как видим, и сам разум, и его идеи, и их понимание представляют собой потенции, что еще раз приводит к мысли о категориальной (а именно задающей структуру, форму мышления) сущности «потенциального».
«Потенциальное» не было категорией у Аристотеля, на которого Розанов ориентировался как на идейного вдохновителя собственных философских поисков, хотя все категории, выделенные им в «Органоне», разворачивались путем дихотомии акта-потенции: например, категория движения (потенциальное движение и совершенное движение). Определяя потенциальное как «бесформенную возможность», материальную причину, Аристотель онтологи-зировал акт-энтелехию (само понятие «энтелехия» у Аристотеля имеет множество значений [4]), наделив ее статусом формы, «индивиду-ирующей» материальный субстрат [1, с. 351]. Розанов исходит из прямо противоположного тезиса: действительное является не первичным по отношению к возможному, наоборот, «предустановленные формы» разума, как я заметил выше, кроются в его потенциях, а само действительное экстраполируется в реальности как осуществление этих заложенных в потенциях форм.
Само собой, эта «рокировка» акта-потен-циальных отношений не была радикальным новшеством. Эволюция философской мысли на протяжении античности, Средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени внесла свои коррективы в «освященную веками» традицию, и уже у Шеллинга «потенциальное» обладает вполне онтологическим статусом [5, с. 205], характером «божественных потенций» [20, с. 289–293]. Понимание «потенциального» как «корня» бытия вещей характерно также для многих других мыслителей самых разных исторических эпох и философских школ, таких как Плотин, Николай Кузанский, Лейбниц и целая плеяда представителей романтизма [18, с. 53].
Розанов, ориентируясь на эту традицию, рассматривает «потенциальное» не только через призму онтологии, но также и в контексте гносеологической проблематики. От Аристотеля он заимствует терминологию, от Шеллинга – его учение о потенциях как базовых онтологических понятиях, от Лейбница – «предустановленную гармонию», которая трактуется им в перипатетическом духе как «форма мышления» и «принцип индивидуации». Все эти эклектичные элементы соединены между собой в единую систему различных схем, типологий и классификаций. Онтологический и гносеологический характер отношения потенций разума к потенциям идей и потенциям вещей посредством их перцепции и апперцепции позволяет рассматривать «потенциальное» в качестве главного принципа и «центральной категории» всей философской мысли В.В. Розанова.
Список литературы «Потенциальное» как центральная категория в философии В.В. Розанова
- Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1976.
- Богатырев Д.К. Кант // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т. 18. № 3. С. 362-375.
- Болдырев Н.Ф. Семя Озириса, или Василий Розанов как последний ветхозаветный пророк. Челябинск: Урал ЛТД, 2001.
- Бородай Т.Ю. Энтелехия // Новая философская энциклопедия. URL: http://iphras.ru/ elib/3549.html
- Гайденко П.П. Гностические мотивы в учениях Шеллинга и Вл. Соловьева // Знание. Понимание. Умение. 2005. № 2. С. 202-207.
- Гарипов Р.К. О разных подходах к определению понятия категории // Вестник Башкирского университета. 2016. Т. 21. № 3. С. 735-738.
- Дадашев М.Б., Лукьянов А.В. Духовная культура в свете учения Ф.В.Й. Шеллинга о «потенциях» или духовно-исторических силах современности // Вестник Омского государственного университета. 2013. № 1. С. 22-27.
- Лоренц К. Кантовская концепция a priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание / Под ред. И.П. Меркулова. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 15-41.
- Мелихов Г.В. Чуть в сторону, но все в направлении к Василию Розанову: философия частного образа мыслей // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2007. № 2. С. 83-95.
- Меркулов И.П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). Т. 2. СПб.: Изд-во РХГА, 2006.
- Огурцов А.П. Категории // Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/ library/collection/newphilenc/document/HASH 7c502f11983e819124187c
- Розанов В.В. Литературные и политические афоризмы (Ответ К.И. Чуковскому и П.Б. Струве). URL: http://dugward.ru/library/ rozanov/rozanov_literaturnye_i_politicheskie.html
- Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 13. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов, К.Н. Леонтьев. М.: Республика, 2001.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 17. В нашей смуте (Статьи 1908 г.). Письма к Э.Ф. Голлербаху. М.: Республика, 2004.
- Розанов В.В. Сочинения: О понимании (Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания). М.: Танаис, 1995.
- Семенюк А.П. Гносеологическая проблематика в трактате «О понимании» В.В. Розанова // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. № 4. С. 118-121.
- Семенюк А.П. Проблема понимания в творчестве В.В. Розанова: дис. ... канд. ист. н. Томск, 2002.
- Семенюк А.П. Учение о потенциальности В.В. Розанова // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013.№ 1. С.52-54.
- Федякин С Р. Художественная проза Василия Розанова. Жанровые особенности. М.: Лит. ин-т им. А.М. Горького, 2014.
- Шеллинг Ф.В.Й. Система мировых эпох: Мюнхенские лекции 1827-1828 гг. в записи Эрнста Ласо. Томск: Водолей, 1999.