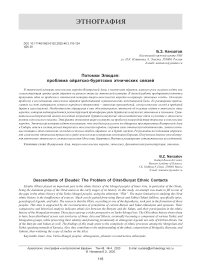Потомки Элюдэя: проблема ойратско-бурятских этнических связей
Автор: Нанзатов Б.З.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 4 т.48, 2020 года.
Бесплатный доступ
В этнической истории монгольских народов Внутренней Азии, в частности ойратов, важную роль сыграли олёты как главенствующая группа среди ойратов на раннем этапе их этнической истории. В данной работе предпринята попытка прояснить один из пробелов в этнической истории тюрко-монгольских народов на примере этнонима «олёт». Основную проблему в исследовании этногенеза ойратов представляет ограниченность источниковой базы. Ее расширение предлагается за счет материалов устного народного творчества - эпических произведений, генеалогических легенд и преданий бурят и саха (якутов). Необходимость обращения к ним обосновывается гипотезой об участии олётов в этногенезе этих народов, которая подтверждается реконструкцией протоформы ряда бурятских и якутских этнонимов и эпонимов. Сравнительно-исторический анализ последних вскрывает бурятско-якутские этногенетические связи и участие в этногенезе якутовмонгольского пласта. Эти факты позволяют шире взглянуть на проблему взаимодействия тюркских и монгольских народов. Этническая история олётов показывает, что они были расселены на обширных пространствах Внутренней Азии и Сибири, вошли в состав разных тюркских и монгольских народов, сохранив свою этническую идентичность, заняли ключевые позиции в этногоническихлегендах не только дербен-ойратов, но и бурят, якутов. Результаты исследования отражают сложность этнических процессов в среде монгольских и тюркских кочевников Евразии. Полученные данные способствуют уточнению этнического состава населения Монголии, Бурятии и Якутии и расширению алтаистических исследований.
Внутренняя азия, тюрко-монгольские народы, этногенез, фонетическая реконструкция, этноним
Короткий адрес: https://sciup.org/145146199
IDR: 145146199 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.116-124
Текст научной статьи Потомки Элюдэя: проблема ойратско-бурятских этнических связей
Глубинные исследования этнонимов тюркских и монгольских народов позволяют расширить знания об этнической истории степного пояса Евразии. В данной работе на примере этнонима олёт / элёт / элют / өлөд / өөлд / öölöd / ögeled / ügeled / ögälät / öliyed предпринята попытка установить участие одной из ветвей ойратской общности (олётов и шире ойратов) в этногенезе бурят и якутов. В этнической истории ойратов важную роль сыграли олёты, в особенности на ранних этапах развития ойратской общности, поскольку, по общему убеждению исследователей, после распада Монгольской империи они стали главенствующей группой среди ойратов. В разные периоды отмечаются изменения статуса этнонимов «олёт» и «ойрат»: первый распространяется на всех ойратов и, наоборот, олёты становятся частью ойратов. Такая динамика в иерархии этнических общностей нуждается в уточнении событий, повлекших эти изменения. Частично информацию дают письменные источники. Однако следует отметить противоречивость их сведений. В исследованиях этногенеза и этнической истории письменные источники далеко не всегда являются ключевым звеном, что не исключает их использования с известной долей осторожности.
История ойратов достаточно подробно освещена в дошедших до нас хрониках, однако сведения об олё-тах довольно скудны, т.к. большинство авторов принадлежали к другим ветвям ойратов (Батур-Убаши Тюмень, Габан Шарап и др.). В статье А. Бирталан по этногенезу олётов указано всего два письменных источника и практически полностью отсутствуют материалы устного народного творчества (генеалогические предания, легенды) [Birtalan, 2002]. Необходимо расширить источниковую базу. В данной работе внимание сфокусировано на этнической истории олётов, географии их расселения в целях реконструкции этнической карты Внутренней Азии в разные периоды. Особый интерес представляет идентичность олётов.
Методологической опорой являются историкосопоставительный и историко-лингвистический методы, применяемые в исследованиях по этногенезу, а именно при изучении этнонимов и эпонимов. Продолжительный период со времени падения династии Юань в истории Северной Монголии (включая Прибайкалье, Туву, Хакасию, Западную Монголию) известен как «темный» из-за отсутствия письменных источников. Дошедшие до наших дней памятники XVIII–XIX вв. являются компиляцией несохранив-шихся сочинений. Осложняет ситуацию утрата западными бурятами и якутами, в состав которых вошли и олёты, письменных традиций. Несмотря на наличие соответствующей терминологии, книг того времени у них не обнаружено. В определенной мере восполнило эту лакуну развитое устное народное творчество, включающее широкий спектр эпических произведений, генеалогических легенд и преданий. В основу предлагаемой гипотезы легли материалы, записанные в первой половине XVIII в. Я.И. Линденау у вилюй-ских якутов [1983, с. 18] и в конце XIX в. М.Н. Ханга-ловым у кудинских бурят [1960, с. 107–108]. Термин «олёт» упоминается в ойратских хрониках.
В истории ойратов в поздний период правления династии Юань, эпоху Мин и времена маньчжурского владычества отмечены сложные этнические процессы: добровольные и насильственные миграции, смешение и разделение ойратской общности. Все это послужило причиной формирования многоуровневой системы идентичности ойратов. На разных этапах развития ойратской общности этноним «олёт» объединял большинство ойратов и утрачивал свою актуальность (подробнее см.: [Терентьев, 2017]). Это обосновывает интерес к этнической истории олётов. Важной задачей видится исследование их роли в этногенезе бурят, занимающих северную периферию монгольского мира.
Дисперсное расселение олётов (по рекам Или, Харашар, Алашань, Кобдо, Хайлар) было вызвано целым рядом причин: конфликтами с другими народами, распрями среди знати, насильственной миграцией в эпоху Цин. По данным Г. Лижээ, они являлись одной из групп монгольского населения Синьцзяна и составляли 21 сомон [2008, х. 12–14]. К настоящему времени известны такие группы олётов, как кобдоские (сомон Эрдэнэбурэн), архангайские (сомоны Хотонт, Улзийт) в Монголии [Дисан, 2012, с. 107]; монгол-ху-рэ, эмелинские, хутагтын-хурэ, хара-ус (Синьцзян) [Лижээ, 2008, х. 12–14], хулунбуирские (аймак Хулун-буир АРВМ) в Китае [Цыбенов, 2017]; сарт-калмаки в Кыргызстане (см.: [Нанзатов, Содномпилова, 2012]). Кроме того, небольшие группы олётов широко представлены практически на всей территории Монголии (подробнее см.: [Очир, Дисан, 1999, х. 11–13]), присутствуют среди тувинцев, в частности среди оюн-наров и хомушку [Дулов, 1956, с. 130, 134]. В среде дархатов их отметил Г.Д. Санжеев [1930, с. 12]. Среди западных бурят олёты, также известные как сэгэнуты, наряду с булагатами и эхиритами представляют одно из старейших племенных объединений. В их составе отмечены такие подразделения, как икинат и зунгар [Хангалов, 1890а, с. 88; 1960, с. 107–108].
Письменные источники
Согласно одной из версий этнической истории ойра-тов, олёты являются предками чоросов по материнской линии: Оолинда Будун-тайши – дочь олёта Боо-хана, – выйдя замуж за хойтского принца, положила начало роду Чорос [Okada Hidehiro, 1987, S. 210]. По письменным источникам этноним «олёт» стал известен лишь на рубеже XV–XVI вв. Так, в одном из них говорится о выделении подданных Хамаг-тайд-жи (внука Эсэн-хана), имевших этноним ügeled/ööld, из более крупной к тому моменту общности чоросов (čoros) [Oyirad teüke-yin…, 1992, q. 9]. В «Сказании о дербен-ойратах» сообщается, что «с того времени, когда калмыки, носящие красную нить на шапке (ulan zalatu xalimaq) получили прозвание “ойраты-элёты” (oyirad ӧyilӧd), до нынешнего года “земли-зайца” прошло 382 года» [1969, с. 17–18]. По расчетам В.П. Сан-чирова, это событие произошло в 1438 г., когда ойрат-ский правитель Тогон-тайши из знатного рода Чорос (Цорос) наголову разбил восточно-монгольского верховного хана Адая и стал во главе первого союза дер-бен-ойратов [Письменные памятники…, 2016, с. 21].
В сочинении Батур-Убаши Тюменя говорится об откочевке олётов к хазалбашам [2003, с. 127]; откочевка за р. Манхан упоминается в «Истории Хо-Öрлöка» [Письменные памятники…, 2016, с. 31]. Б.У. Китинов провел исследование миграции олётов на запад в контексте религиозной ситуации у ойра-тов в XV – начале XVI в. [2017]. По его мнению, причиной распада олётской общности по служил брак Аш-Темура (Амасанджи-тайши) и дочери правителя Могулистана, главным условием которого было принятие их детьми ислама. Впоследствии между отцом и сыновьями Ибрахимом ( 亦卜剌因 Yìboláyīn) и Ильясом ( 亦剌思 Yìlásī)* возник конфликт из-за религиозных разногласий, в результате чего сначала Амасан-джи-тайши ушел в Могулистан (но потом вернулся), а позже его сыновья. Все это случилось, по данным источника «Тарих-и Рашиди» в период с 1469 г. по 1504–1505 гг. [Serruys, 1977, p. 375; Хайдар, 1996, с. 115], а по мнению В.В. Бартольда – в 1472 г. [1898, с. 81–82]. Б.У. Китинов считает, что события, последовавшие за браком Аш-Темура (Амасанджи-тайши, Эсмет-Дархан-нойон), привели к гибели большей части олётов и их правящего рода Чорос [2017, с. 378].
В первой половине XVIII в. основная масса олётов была расселена на территории Джунгарского ханства. После его падения в 1757–1758 гг. произошли значительные изменения (подробнее см.: [Очиров, 2010]). На завершающем этапе истории Джунгарского ханства, понятие «джунгары (jǖnγar/зүүнгар)» включало все ой-ратское население. Свидетельством этого является наличие в составе калмыцких зюнгаров таких крупных самостоятельных подразделений, как торгуты, хойты, урянхусы и теленгиты [Митиров, 1998, с. 142; Шан-таев, 2009, с. 142; Бакаева, 2016, с. 87]. Но после падения Джунгарии этноним «джунгар (sungar/jüünγar/ зүүнгар)» был официально запрещен, а «олёт (eleuths/ өөлөд)» стал официальным наименованием большей части ее ойрат-монгольского населения [Fang Chao
Ying, 1943, p. 11]. Таким образом, в эпоху Цин зюнга-ры стали называться олётами, как и прежде. В то же время официально на территории Синьцзяна (Джунгария и Восточный Туркестан) фиксируются торгуты, хошуты, дербеты, чахары, урианхай и захчины [Лижээ, 2008, х. 8–18]. Следовательно, основу населения олёт-ских хошунов и сомонов здесь составили близкородственные олёты и зунгары, а другие группы ойратов проживали отдельно. О том, что именно олёты с 1437 г. стали называться джунгарами повествуется в сочинении «История Хо-Öрлöка»: «...ɣool dumda ni Qošud čerig, ǰegün bey-e-dü Ögeled-ün čerig-i ǰegün ɣar-un čerig geǰü nereyidbei... Tegün-eče ekileged, Ögeled-tü Jě günɣar gedeg nere šinggebei, Torɣud-tu baraɣun ɣar gedeg ner-e qadaɣdabai gedeg» [Письменные памятники…, 2016, с. 27] – «…в центре находилось войско хошутов, на левом фланге ( зӱӱн бийдэ ) – войско элётов, которое назвали зÿÿнгарын цэрэг (войском левого крыла)… Говорят, что с того времени за элётами закрепилось название “джунгары” ( зӱӱн һар ), за торгутами – название ба-руун һар (правый фланг)» [Там же, с. 33–34]. Также примером того, как соотносились этнонимы «ойрат» и «олёт», является ойратский письменный памятник «Илэтхэл шастир», в котором они были взаимозаменяемы [Санчиров, 1990, с. 45–46].
История олётов, оставшихся во Внешней Монголии, подробно освещена О. Оюунжаргал в монографии, впоследствии вышедшей и в переводе на русский язык [2009, 2015]. Автор, подробно описав события, приведшие к формированию Олётского чуулгана (сейма), на основании «Илэтхэл шастир» и архивных источников пришла к выводу, что в его состав вошли шесть хошунов, в т.ч. олётов, хойтов и хошутов [Оюунжаргал, 2009, х. 53–74; 2015, с. 63–83]. Однако по вопросу об этническом составе Олётского сейма существует и другое мнение. Б. Нацагдорж вместо хо-шутского хошуна указывает торгутский Мэргэн-цорч-жи [2015, с. 183; Natsagdoj, 2015]. В любом случае, самыми многочисленными были олёты, чьим именем и назван чуулган.
Представленные выше материалы письменных источников, отражающие этапы развития ранней олёт-ской общности, все еще остаются дискуссионными. Следует отметить, что в контексте задач данной работы вопрос о соотношении чоросов и олётов не является принципиальным. Исследование сложного расселения нескольких анклавов разделенной олётской общности представляет интерес с точки зрения участия одной из ее ветвей в консолидации баргу-бурят.
Материалы и обсуждение
Этноним. Как отметил Окада Хидехиро, маньчжуры использовали Ȫlöd, транскрибируемый по- маньчжурски Ūlet, в качестве синонима Oyirad. Термин Ȫlöd был китаизирован как E-lu-t’e, от которого произошел европейский вариант Eleuths [Okada Hidehiro, 1987, S. 197]. Отметим, что ойратов маньчжуры называли Urūt [Crossley, 2006, p. 80].
Наличие Олётского сейма в составе Цинской империи до завоевания Джунгарии дает возможность разрешить проблему соотнесения терминов ойрат / oyirad и олёт / ȫlöd в эпоху Цин. По нашему мнению, последний заместил в глазах маньчжурской администрации понятие «ойрат» в связи с формированием первого ойратского чуулгана в составе империи. Сейм, названный по имени крупнейшего ойратского подразделения, стал отправной точкой идентификации всего западно-монгольского населения.
Одной из первых европейских работ об ойратах была книга И. Бичурина, вышедшая в 1834 г. Именно в ней указано о существовании разночтения в этнониме: «Князь Элютэй был столь славен в Монголии, что по его имени и всему его поколению дано название Элют . Слово Элютэй по Китайскому произношению: Олотай , по Монгольскому же выговору следует писать Элютэй , а от сего Элют название поколения» [Бичурин, 1834, примеч. 20]. Возможно, в основу этого утверждения легла фраза из рукописи В.М. Бакунина, опубликованной значительно позднее: «Но сие достоверно, что в XVI веке калмыцкий народ назывался на их языке ойрот, а по-мунгальски ойлиот » [1995, с. 20]. В.М. Бакунин (1700–1766) как чиновник и переводчик с калмыцкого языка сопровождал китайское посольство к калмыкам в 1731 г. Возможно, именно это событие повлияло на восприятие экзоэтнонима ойрот ( Oyirad ) как ойлиот ( Ȫlöd ). Долгое время в монголоведении не было однозначной позиции по данному вопросу, некоторые исследователи считали, что китайское 厄鲁特 ( О-лу-тэ / Èlǔtè ) и есть искаженное ойрот / Oyirad [Успенский, 1880, с. 127; Bretschneider, 1888, p. 168].
Трудноразрешимой проблемой видится кажущаяся фонетическая близость этнонимов 卫拉特 (Вэй-ла-тэ/Wèilātè) – «ойрат» и 厄鲁特 (О-лу-тэ/Èlǔtè) – «олёт» в китайском языке цинского времени. Наличие в предшествующие эпохи иероглифических терминов, обозначающих ойратов (斡亦剌惕 (Во-и-ла-ти/ Wòyìlátì) в юаньское время [Юань-чао..., 1936, с. 58], 瓦剌 (Ва-ла/Wǎlà) [Мин ши; Покотилов, 1893, с. 32; Hambis, 1969, p. 93; Pelliot, 1960, p. 6] / 衛拉特 (卫拉) (Вэй-ла-тэ/Wèilāte) в минское [Мин ши (сыку цюань-шу бэнь); Pelliot, 1960, p. 8]), с одной стороны, и отсутствие таковых для понятия «олёт» – c другой, позволяет допускать, что последнее передавалось тогда китайскими историографами термином ойрот/oyirad, написание которого изменялось в связи с развитием фонетики китайского языка. Присоединяемся к мнению П.К. Кроссли о том, что недопустимо считать olot/ölöt возвратной конструкцией к китайскому elete/ weilete [Crossley, 2006, p. 80–81].
Важным остается вопрос об этимологии этнонима Öölöd . Существует гипотеза китайского исследователя Алтаноргила о его происхождении от өөлий («крупный, мощный») [Altanorgil, 1987, q. 145]. А. Очир считает, что данный этноним восходит к корню öge, указывая в качестве примеров имена из Сокровенного сказания монголов: öge-lün (eke), öge-lei (čerbi), öge-dei (qaγan) [Kuribayashi, Choijinjab, 2001, § 13, 55, 93, 191, 214, 226, 255, 270]. Далее он предлагает связать развитие ögeled в elēd со значением «их, ууган, на-сжуу» («большой, старший, рослый, пожилой»), допуская öleged > eleged [Очир, 2008, х. 150–151; 2016, с. 148]. Однако это противоречит гипотезе о корне öge, т.к. возможность перехода VgVlV > VlVgV не отмечена. Г.О. Авляев связывает этноним « олёт » с глаголом огулэху ( өөлэху ) – «обижаться, быть недовольным чем-то». Соответственно, он считает, что этноним имеет значение «обидевшиеся», «обиженные» или «недовольные» [Авляев, 2002, с. 55, 192, 194].
Наиболее достоверной, по нашему мнению, является версия японских исследователей о происхождении этнонима Öölöd от ögelen со значением «брат по матери, но от другого отца» [Ханеда Акира, 1971, р. 561–565; Okada Hidehiro, 1987, S. 210]. Ханеда Акира обнаружил в монголо-французском словаре А. де Смедта и А. Мостарта сочетания ögelen köbegün – «fils d’un autre lit» («пасынок»), ōlön aχa dū / ula aĢa diū – «frères nés de la même mère, mais de pères différents» («братья, рожденные от одной матери, но от разных отцов, единоутробные братья»), ula k’adzi diü «soeurs nées de la même mère, mais de différents pères» («сестры, рожденные от одной матери, но от разных отцов, единоутробные сестры») [Smedt, Mostaert, 1933, p. 469; Ханеда Акира, 1971, p. 562]. Окада Хидехиро, развернувший доказательства, привлек еще одну работу А. Мостарта, в которой было представлено несколько словосочетаний с ögelen/ȫlö: ȫlȫ k‘ɯ͞ – «fils d’un autre lit» (= dɑɡɑ͔ wur͔ k‘ɯ͞ ) / ögelen köü – «a stepson» («приемный сын, пасынок»), ȫlȫ k‘ɯ͞ ‘kχet – «enfants d’un autre lit» (= dɑɡ͔ɑwur͔ k‘ɯ͞ ‘kχet ) / ögelen keüked – «stepchildren» («приемные дети»), ȫlön e‘tš‘ige – «le second mari de la mère» («второй муж матери») / ögelen ečige or qoyitu ögele – «a stepfather» («отчим») [Mostaert, 1942, p. 531; Okada Hidehiro, 1987, S. 210]. Кроме того, он предложил под термином ögele(n)+d понимать родственные связи хойтов и баатутов с чоросами. Одним из подтверждений версии японских исследователей является сочинение «Oyirad teüke-yin durasqal-ud», в котором прямо сказано, что трех князей, правнуков ойратско-го Эсэна-тайши, сыновей его внука Хамаг-тайши, называли олётами: «…второй сын Эсэна – Онггоца, его сын – Хамаг-тайши. Из трех сыновей Хамаг-тайши старший – Рагнанчинсанг, второй – Нусханай, третий –
Онггой (Онгуй). Этих трех князей называют элётами. Став во главе ойратов, они откочевали по наущению Шара шулмы…» [1992, q. 9; Письменные памятники…, 2016, с. 195–196]. Проблема родственных связей корневой основы ögele(n) в монгольских языках с ög , oq либо иной основой в тюркских или других языках не решена и является темой отдельного исследования.
Эпоним. В монгольской историографии решение вопроса о происхождении олётов обычно ограничивается поисками среди лесных племен и указанием на их упоминание в числе дербен-ойратов, например, у Батур-Убаши Тюменя и Габан Шараба [Сказание…, 1969, с. 19; Батур-Убаши Тюмень, 2003, с. 127; Габан Шараб, 2003, с. 84]. К сожалению, ни в Сокровенном сказании монголов (Mongγol-un niγuča tobčiyan), ни в Сборнике летописей Рашид-ад-Дина (Jāmī al-Tawārīkh) этноним Ōlöd / Öyilöd / Ögeled не упоминается. Отсутствие термина в таких важных письменных источниках позволяет авторам допускать возможность расселения олётов в составе дербен-ойратов в пределах Секиз-мурена (Sekiz-Mören) и Баргуджин-токума (Barqujin-töküm), известных по тем же источникам [Козин, 1941; Pelliot, 1949; Рашид-ад-Дин, 1952; The Secret History…, 2004].
Исследователи упустили один из важнейших источников по этногенезу - устные этногонические легенды и предания. С историей Баргуджин-токума связана легендарная этническая генеалогия бурят. Так, М.Н. Хангалов еще в XIX в. записал и опубликовал предание о Баргу-баторе [1890б]. Весьма примечательным является фрагмент о его старшем сыне: «По кудинскому преданию, родоначальником бурят был Барга-батур, который жил около Тобольска и имел трех сыновей; старшего звали Илюдэр-Тургэн, среднего – Гур-бурят, младшего – Хоредой-мэргэн. Впоследствии Барга-батур со своими двумя сыновьями Гур-бурятом и Хоредой-мэргэном из Тобольска двинулся на восток, а старшего сына, Илюдэр-Тургэна, оставил в Тобольске, сказав ему: “Ты будешь царем здешних мест! Твое счастье – на старом месте!” Так Илюдэр-Тургэн и остался на старом месте. От него произошли нынешние калмыки, живущие в Астраханской, Ставропольской и Саратовской губерниях. О том, как потомки Илюдэр-Тургэна переселились из Тобольска на запад, бурятское предание не знает. Некоторые потомки Илюдэр-Тургэна, по-видимому, пришли потом и на восток; по крайней мере, бурятские роды Бала-ганского ведомства, Зунгарский и Икинатский, считаются из племени калмыков, по-бурятски: өлөд или сэгэнут» [Хангалов, 1960, с. 107–108]. В опубликованной Сумъябатааром рукописи «Бодонгуудын угийн бичиг» («Родословная Бодонгутов») агинских бурят, переселившихся в Монголию, упоминается Өлидэй (Ölidei) – сын Баргу-батора (Barγu baγatur), старший брат Бурядая (Buriyadai) и Хорудая (Qorudai) [1966, х. 179]. Эта форма наиболее близка якутской Eldei, о которой речь пойдет далее.
Следует отметить, что в случае с эпонимом Omogon у Я.И. Линденау и Omoγoi в устных преданиях (бурят, пришедший на среднюю Лену в долину Туй-маада) [Там же; Ксенофонтов, 1977, с. 29], по нашему мнению, имеется параллель с бурятским эпонимом Oboγon. Булагатская группа племен, известная как Обогони олон, по преданиям произошедшая от предка с таким именем, действительно расселена в долине Ангары и ее притоков Осы, Обусы, Унги. То есть в случае с Omogon обнаруживается вполне реальная племенная группа [Нанзатов, 2017а, б]. По аналогии весьма вероятно участие в этногенезе якутов пле- мени Ōlöd, представленного эпонимом Eldei/Eldeei, фонетическая форма которого соответствует одному из этапов развития Öölödei > Elüdei > Ilüder(-Türgen). Используемая большинством якутов форма Ellei отражает широко распространенный процесс ll < ld (подробнее см.: [Грамматика…, 1982, с. 67]).
Открытым остается вопрос о фонетическом преобразовании этнонима ügeled / öölöd в Öölödei > Elü-dei > Eldei (якут.) или Öölödei > Elüdei > Ilüder (-Türgen) в бурятской среде. А. Очир, предложив версию развития öleged > eleged, коснулся важной для нас темы трансформации этнонима в эпоним, известный среди бурят и якутов. По нашему мнению, эта трансформация могла произойти под влиянием фонетически близких, но семантически разных корневых основ. Зафиксированное Б.Х. Тодаевой слово элəəде (элееде) со значениями «значительный, большой; более чем достаточный, обильный; старший» [2001, с. 471] вполне могло оказаться основой эпонима, представляющего старшего сына Баргу-батора, старшего брата Гур-Бурята и Хоредоя. Также можно допустить влияние другого фонетически близкого слова илдэн (письм.-монг. ildeng , кит. 伊尔登 yī ěr dēng , ср. монг. ilde ‘без занятия, без должности’) [Kowalewski, 1844– 1849, p. 306], которое в XV–XVIII вв. являлось эпитетом в титулах [Урангуа, 2000, х. 55], например Dorji-ildeng-noyan [Dayičin ulus-un…, 2013, t. 34], а также неоднократно встречалось в личных именах.
Относительно замены инициального звука ö > e > i можно обратиться к труду Б.Я. Владимирцова, установившего параллели e : ö = i : o ~ u = i : ö ~ ü [1929, с. 185– 190]. Эпоним образован следующим образом: этноним Ōlöd и имяобразующий гендерный аффикс -tai (подробнее о -tai см.: [Kempf, 2006]). Что касается суффикса -dar/-der, то уже высказывалось мнение о его применении в бурят-монгольской этнонимии как словообразовательного форманта, чаще всего обозначающего масть лошади [Нанзатов, Сундуева, 2017]. Парным с Илюдэр является эпитет Тургэн («быстрый»). По нашему предположению, трансформация -dei > -der в имени, т.е. (ö/e) l(i/e/ü)dei > (e/i)lüder, в совокупности с появлением этого эпитета может указывать на факт перевоплощения персонажа в коня в мировоззрении бурят. Сохранение же якутской формы Eldei > Ellei свидетельствует о том, что к предкам якутов эпоним попал еще до изменения бурятского Ölidei. Подробное обоснование трансформации в Ilüder и Eldei требует отдельного историко-фонетического исследования.
Сэгэнуты. В свете этнической истории олётов особый интерес представляет ойратский пласт в этногенезе бурят, основу которого также составляют олёты. В списке бурятских племен, составленном М.Н. Хангаловым, первым стоит Сэгэнут, или Өлөд [Хангалов, 1890а, с. 88; 1960, с. 101]. К этому племени исследователь относил Зунгарский и Икинатский административные роды [Хангалов, 1960, с. 107–108]. Бурятский фольклорист и этнограф С.П. Балдаев, на протяжении всей своей жизни собиравший генеалогические легенды и предания бурят, значительно расширил список сэгэнутских (олётских) подразделений. Так, по преданиям, с сэгэнутами родственными узами связаны такие бурятские племена, как ики-нат (ихинад), зунгар (зүүнгар), букот (бухэд), дурлай, тугут, хайтал, торгоут, нойот (ноёд), манхолют (ман-халюуд), барунгар (баруунгар). Через брачные связи сэгэнутам родственны курумчи (хурумши), толодой (төлөөдөй), а икинатам – нарат (наратай/нарад) (подробнее см.: [Балдаев, 1970, с. 333]). Здесь обнаруживаются такие ойратско-бурятские параллели, как названия крупных ойратских объединений зүүнгар/зунгар, торгууд/торгоут, а также малых племен: ноён среди кобдосских олётов и нойот (ноёд) у бурят, бухунут (bükünüt, бүхнүүд, бүгүнүд) в составе олётов, дербе-тов, захчинов [Монгол Улсын…, 2012, х. 46, 109, 430; Pelliot, 1960, p. 124] и букот (бухэд) у бурят.
Интересен бурятский термин икинат , являвшийся названием крупнейшего подразделения олётов-сэ-гэнутов. Анализ хакасского этнонима ығы (игинцы) показал, что его вероятным развитием было *ық-> *ықы > ығы ~ aғы. Вполне допустимо параллельное развитие исходного этнонима в хакасской и бурятской среде: *-qï- > *-ki- > -iχÏi- > iχÏi+nA+d [Нанзатов, Тишин, 2019, с. 124]. Как бы то ни было, предком обеих групп могло быть коренное население Восьмиречья, откуда этноним попал к хакасам и бурятам.
Относительно олётско-бурятских связей можно привести такие параллели, как боролдой [Нанза- тов, 2018, с. 38, 135, 143], хар барга и тольтон барга [Очир, Дисан, 1999, х. 81] у кобдоских олётов и бурят. Кроме того, и у тех, и у других встречаются широко распространенные среди монголов этнонимы чонос/ шоно, авгас/абаганад, дархад/дархат, көөхүй/хухыт (хүүхэд) (см.: [Очир, Дисан, 1999, х. 34, 43, 56, 61; Нанзатов, 2018, с. 29, 39, 43]). Свидетельством ой-ратско-бурятских связей может быть наличие общего мотива (вскармливание младенца совой) в легендах о происхождении ойратских чоросов и бурятской этнической группы уляаба [Авляев, 1981, с. 64].
Есть версии происхождения этнонима сэгэнут (бур. Cэгээнүүд / сэгээнэд ) от сэгээн – «голубой, светлый» [Нанзатов, 2005, с. 55] (ср.: ойр. cegen , халх. сegeen , бур. segeen , ордос. č igên , калм. cegε:n ‘светлый, яркий, прозрачный, белый’. Монг. > як. [Kałużynski, 1995, S. 258–259]). Д.В. Цыбикдоржи-ев связывает его с этнонимами «cingnüt (čingnüt)» и «чикэ», упомянутыми соответственно в хоринской летописи XIX в. Ш.-Н. Хобитуева и «Алтан тобчи» Мэргэн Гэгэна [Буряадай…, 1992, х. 95; Балданжа-пов, 1970, c. 141; Цыбикдоржиев, 2012, с. 140–143].
Заключение
Обнаруженные параллели между бурятскими олёта-ми-сэгэнутами и ойратами, олётами Монголии и бурятами свидетельствуют о глубоких ойратско-бурят-ских связях. Главным выводом нашего исследования является то, что ойраты приняли активное участие в этногенезе бурят. Ойратский пласт, отраженный в бурятских этногонических легендах, представляет старшую ветвь ранней баргу-бурятской общности. От нее отделилась группа, оказавшая значительное влияние на этногенез якутов. Ойраты, ушедшие на север, утратили этноним, но сохранили эпоним, оставив след своего присутствия. Таким образом, традиционная теория о южном происхождении (Прибайкалье) предков саха (якутов), которая подробно представлена Г.В. Ксенофонтовым [1937; 1977], сделавшим первые шаги в обнаружении бурятско-якутских параллелей, и поддержана А.П. Окладниковым [1955], получила новое доказательство.
Участие ойратов в этногенезе бурят и якутов позволяет шире взглянуть на проблему взаимодействия тюркских и монгольских народов. Выявленные данные могут быть использованы при составлении карт этнического состава Монголии, Бурятии и Якутии. В этнической истории олётов, оказавшихся разделенными, вошедших в состав других народов, сохранив идентичность, занявших ключевые позиции в этного-нических легендах не только дербен-ойратов, но и бурят, якутов, отражены сложные этнические процессы в среде монгольских и тюркских кочевников Евразии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий № 075-15-2019-1879).
Список литературы Потомки Элюдэя: проблема ойратско-бурятских этнических связей
- Авляев Г.О. Этнонимы-тотемы в этническом составе калмыков и их параллели у тюркских народов // Этнография и фольклор монгольских народов. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1981. – С. 62–71.
- Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа. – 2-е изд., испр. и перераб. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 2002. – 325 с.
- Бакаева Э.П. О составе олётов Монголии и калмыков-зюнгаров // Трансграничная культура: очерки сравнительно-сопоставительного исследования традиций западных монголов и калмыков. – Элиста: КалмНЦ РАН, 2016. – С. 84–91.
- Бакаева Э.П. Хошуты Калмыкии и Монголии: историко-этнографический очерк // Новые исследования Тувы. – 2017. – № 1. – С. 83–101.
- Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев: Сочинение 1761 года / вступ. ст. М.М. Батмаева. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1995. – 158 с.
- Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. – Ч. 1: Булагаты и эхириты. – 362 с.
- Балданжапов П.Б. Altan Tobci: Монгольская летопись XVIII века. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. – 415 с.
- Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. – Верный: [Тип. Семиреч. обл. правления], 1898. – 170 с. – (Памятная книжка Семиреченской области на 1898 г.; т. 2).
- Батур-Убаши Тюмень. Сказание о дербен-ойратах // Лунный свет: Калмыц кие историко-литературные памятники / ред. А. Бадмаев. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 2003. – С. 125−155.
- Бичурин И. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени. – СПб.: [Тип. мед. департамента Мин-ва внутр. дел], 1834. – 266 с.
- Бичурин И. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени / предисл. В.П. Санчирова. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1991. – 127 с.
- Буряадай түүхэ бэшэгүүд. – Улаан-Yдэ: Буряадай номой хэблэл, 1992. – 240 х.
- Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия: Введение и фонетика. – Л.: Ленингр. гос. ун-т, 1929. – XII, 436 с.
- Габан Шараб. Сказание о дербен-ойратах // Лунный свет: Калмыцкие историко-литературные памятники / ред. А. Бадмаев. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 2003. – С. 84–110.
- Грамматика современного литературного якутского языка / отв. ред. Е.И. Убрятова. – М.: Наука, 1982. – Т. 1: Фонетика и морфология. – 496 с.
- Дисан Т. Өөлд // Монгол улсын угсаатны зүй. – Улаанбаатар: Admon, 2012. – Т. 2. – Х. 107–166.
- Дорж Е. Ховдын хошууд нарын ургийн хэлхээс. – Улаанбаатар: Хөх монгол принтинг ХХК, 2012. – 192 х.
- Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы (XIX – начало ХХ в.). – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 608 с.
- Исторические предания и рассказы якутов / изд. подгот. Г.У. Эргис; под ред. А.А. Попова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – Ч. I. – 322 с.
- Китинов Б.У. «Ойраты-огеледы... пересекли реку Манкан»: этно-религиозная ситуация у ойратов в середине XV – начале XVI вв. // Вестн. РУДН. Сер.: Всеобщая история. – 2017. – Т. 9, № 4. – С. 370–382.
- Козин С.М. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongol-un Niguča Tobčiyan. Юань чао би ши: Монгольский обыденный сборник. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – Т. I: Введение в изучение памятника: переводы, тексты, глоссарии. – 620 с.
- Ксенофонтов Г.В. Ураангхай-сахалар: Очерки по древней истории якутов. – Иркутск: Вост.-Сиб. обл. изд-во, 1937. – Т. 1. – XII, 576 с.
- Ксенофонтов Г.В. Эллэйада: Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. – М.: Наука, 1977. – 248 с.
- Лижээ Г. Шинжааны ойрадууд: түүх судлал. – Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2008. – 118 х. – (Ser. Bibliotheca Oiratica; VI).
- Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII века): Историко-этнографические материалы о народах Сибири и Северо-Востока / пер. с нем., подгот. текста, примеч. и предисл. З.Д. Титовой; под. общ. ред. И.С. Вдовина. – Магадан: Кн. изд-во, 1983. – 176 с.
- Мин-ши (История династии Мин), цзюань 328. – URL: https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7328
- Мин-ши (сыку цюаньшу бэнь) (История династии Мин), цзюань 328. – URL: https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2_(%E5%9B%9B%E5%BA%AB%E5%85%A8%E6%9B%B8%E6%9C%AC)/%E5%8D%B7328
- Митиров А.Г. Ойраты – калмыки: века и поколения. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998. – 384 с.
- Монгол Улсын угсаатны зүй / эрх. С. Бадамхатан, Г. Цэрэнханд. – Улаанбаатар: Адмон, 2012. – II боть: Ойрадын угсаатны зүй (XIX–XX зааг үе). – 534 х.
- Нанзатов Б.З. Этногенез западных бурят (VI–XIX вв.). – Иркутск: Радиан, 2005. – 160 с.
- Нанзатов Б.З. Идинские буряты в XIX веке: этнический состав и расселение // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2017а. – Т. 20. – С. 136–156.
- Нанзатов Б.З. Обогони олон и бурятско-якутские связи (на примере эпонима Обогон/Омогой ) // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: мат-лы II Междунар. науч. конф. (г. Улан-Удэ, 4–6 дек. 2017 г.). – Улан-Удэ, 2017б. – С. 298–302.
- Нанзатов Б.З. Иркутские буряты в XIX в.: этнический состав и расселение. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2018. – 290 с.
- Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М. Сарт-калмаки в современном Кыргызстане // Культурное наследие народов Центральной Азии. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. – Вып. 3. – С. 28–49.
- Нанзатов Б.З., Сундуева Е.В. Статус суффикса –дар в бурят-монгольских и тюркских этнонимах // Вестн. Бурят. гос. ун-та. – 2017. – № 10. – С. 73–78.
- Нанзатов Б.З., Тишин В.В. Коренное тюркское население Ачинского округа в XIX веке: этнический состав и расселение // Вестн. БНЦ СО РАН. – 2019. – № 4. – С. 108–131.
- Нацагдорж Ц.Б. Калмыцкий хошун в Халхе в начале правления Юнчжена (1728–1731 гг.) // Трансграничные миграции в пространстве монгольского мира. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2015. – Вып. 3. – С. 152–195.
- Окладников А.П. История Якутской АССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т. I: Якутия до присоединения к русскому государству. – 432 с.
- Очир А. Монголчуудын гарал, нэршил. – Улаанбаатар: Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн, 2008. – 294 x.
- Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы происхождения и этнического состава монгольских народов. – Элиста: КИГИ РАН, 2016. – 304 с.
- Очир А., Дисан Т. Монгол улсын өөлдүүд. – Улаанбаатар: Согоо нуур, 1999. – 212 х.
- Очиров У.Б. Ойраты Западной Монголии и Северо-Западного Китая: вопросы этнической истории, демографии и географии расселения во второй половине XVIII века // Вестн. КИГИ РАН. – 2010. – № 2. – С. 9–15.
- Оюунжаргал О. Манж Чин улсаас монголчуудыг захирсан бодлого: ойрадуудын жишээн дээр. – Улаанбаатар: Арвин Судар, 2009. – 215 х.
- Оюунжаргал О. Ойраты в политике маньчжурской династии Цин. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2015. – 240 с.
- Письменные памятники по истории ойратов XVII–XVIII веков / сост., пер. со ст.-письм. монг., транслит. и коммент. В.П. Санчирова. – Элиста: КИГИ РАН, 2016. – 270 с.
- Покотилов Д.Д. История восточных монголов в период династии Мин. 1368–1634. – СПб.: [Тип. Имп. Академии наук], 1893. – 242 с.
- Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – Т. 1, кн. 2. – 315 с.
- Румянцев Г.Н. Происхождение хоринских бурят. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1962. – 268 с.
- Санжеев Г.Д. Дархаты: Этнографический отчет о поездке в Монголию в 1927 году. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – 64 с.
- Санчиров В.П. «Илэтхэл-шастир» как источник по истории ойратов. – М.: Наука, 1990. – 137 с.
- Санчиров В.П. Новый ойратский источник о происхождении джунгарских князей // Монголоведение (Монгол судлал). – 2016. – № 8. – С. 13–22.
- Сказание о дербен-ойратах, составленное нойоном Батур-Убуши Тюменем (перевод Ю. Лыткина) // Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. – Элиста: [б. и.], 1969. – С. 13–50.
- Сумъябаатар. Буриадын угийн бичээс. – Улаанбаатар: Шинжлэх Ухааны Академийн хэвлэл, 1966. – 316 х. – (Ser.: Studia Ethnographica Instituti Historiae Academaiae Scientarum Republicae Populi Mongoli; T. III, fasc. 2).
- Терентьев В.И. Вопросы соотношения средневековых ойратов и современных западных монголов: версии исследователей // Восток (Oriens). – 2017. – № 3. – С. 81–93.
- Тодаева Б.Х. Словарь языка ойратов Синьцзяна. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 2001. – 489 с.
- Урангуа Ж. Хэргэм, зэрэг цол өргөмжлөхүй (XVII–XX зууны эхэн). – Улаанбаатар: Наранбулаг принтинг, 2000. – 59 х.
- Успенский В. Страна Кукэ-Нор, или Цин-Хай, с прибавлением краткой истории ойратов и монголов, по изгнании последних из Китая, в связи с историей Кукэ-Нора (преимущественно по китайским источникам) // Зап. ИРГО. – 1880. – Т. 6, отд. II. – C. 57–196.
- Хайдар Мирза-Мухаммад. Тарих-и Рашиди / пер. А. Урунбаева, Р.П. Джалиловой. – Ташкент: Фан, 1996. – 727 с.
- Хангалов М.Н. Племена бурят // Сказания бурят, записанные разными собирателями. – Иркутск: [Тип. К.И. Витковской], 1890а. – С. 88−89. – (Зап. ВСОРГО по этнографии, т. 1, вып. 2).
- Хангалов М.Н. Барга-батур // Сказания бурят, записанные разными собирателями. – Иркутск: [Тип. К.И. Витковской], 1890б. – С. 112−113. – (Зап. ВСОРГО по этнографии; т. 1, вып. 2).
- Хангалов М.Н. Соб. соч. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. – Т. 1. – 552 с.
- Хангалов М.Н. Соб. соч. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. – Т. 3. – 422 с.
- Ханеда Акира. Футатаби Элютэ ни цуйтэ: Дзюнгару ококу бокко-си но итисокумэн (Снова к вопросу об элютах: один из аспектов истории подъема Джунгарского ханства) // Сирин = The Shirin or the Journal of History. – 1971. – Vol. 54, iss. 4. – P. 544–565.
- Цыбенов Б.Д. Олеты Хулун-Буира: миграции и родовой состав // Трансграничные миграции в пространстве Монгольского мира: история и современность. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. – Вып. 4. – С. 143–156.
- Цыбикдоржиев Д.В. Ойраты до и после 1207 г. // Культурное наследие народов Центральной Азии. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. – С. 120–148.
- Шантаев Б.А. О структуре родов калмыков-зюнгаров // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов. – Элиста: КИГИ РАН, 2009. – Вып. 1. – С. 140–145.
- Юань-чао ми-ши (Тайная история монголов) / ред. Ван Юнь-у. – Шанхай: Шанъу иньшугуань, 1936. – 1200 с.
- Altanorgil. Todo üsüg degere jokiyaγdaγsan Mongγol teüke-yin surbulji bičigüd-ün tanilčaγulγa // Öbör Mongγolun baγši-yin yeke surγaγuli-yin erdem šinĵilgen-ü sedgül. – Nemelte sedgül, 1987. – Q. 137–176.
- Atwood C. Titles, appanages, marriages, and officials: A comparison of political forms in the Zünghar and thirteenthcentury Mongol empires // Imperial Statecraft: Political Forms and Techniques of Governance in Inner Asia, 6th–20th Centuries / ed. D. Sneath. – Washington: Western Washington University, Center for East Asian Studies, 2006. – P. 610–634.
- Birtalan Á. An Oirat ethnogenetic myth in written and oral traditions (a case of Oirat legitimacy) // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. – 2002. – Vol. 55 (1–3). – P. 69–88.
- Bretschneider E. Medieval Researches from Eastern Asiatic sources. – L.: Trubner&Co, 1888. – Vol. 2. – 352 p.
- Crossley P.K. Making Mongols // Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China / eds. P.K. Crossley, H.F. Siu, D.S. Sutton. – Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 2006. – P. 58–82.
- Daičing ulus-un mongγul-un maγad qauli: Nigedüger emkitgel. – Köke-qota: Ebür mongγul-un surγal kümüǰil-ün keblel-ün qoriy-a, 2013. – 1236 t.
- Fang Chao Ying. Amursana // Eminent Chinese of Ch’ing Period (1644–1912) / ed. A.W. Hummer. – Washington: United States Government Printing Offi ce, 1943. – Vol. 1. – 604 р.
- Hambis L. Documents sur l’histoire des Mongols à l’époque des Ming. – P.: Presses Universitaires de France, 1969. – XCII, 270 p. – (Bibliothèque de l’Institut des Hautes Études Chinoises; vol. XXI).
- Kałużynski S. Iacutica: Prace jakutoznawcze. – Warschawa: Wydawnictwo Akademickie, Dialog, 1995. – 404 s.
- Kempf B. On the Origin of Two Mongolic Gender Suffi xes // Ural-Altaischer Jätbucher. Neue Folge. – 2006. – Bd. 20. – S. 199–207.
- Kowalewski J.E. Dictionnaire mongol-russe-français. – Kasan: Imprimerie de l’Université, 1844–1849. – Vol. I–III. – 2690 p.
- Kuribayashi H., Choijinjab (Comp.). Word- and Suffi x-index to the Secret History of the Mongols, based on the Romanized transcription of L. Ligeti. – Sendai: Tohoku University, 2001. – 954 p. – (The Center for Northeast Asian Studies. Monograf Series 4). Mostaert A. Dictionnaire Ordos. – Peking: Fu Jen Catholic University Press, 1942. – Vol. II. – P. 391–768.
- Natsagdorj Ts.B. On the Torgud (Kalmyks of the Volga Region) Banner in Western Qalqa during the Middle Years of the Yongzheng Reign (1728–1731) // Saksaha. – 2015. – Vol. 13. – P. 1–24.
- Okada Hidehiro. Origins of the Dörben Oyirad // Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge. – 1987. – Bd. 7. – S. 181–211.
- Oyirad teüke-yin durasqal-ud. – Urumči: Šinǰiyang-un arad-un keblel-ün qoriya, 1992. – 496 q.
- Pelliot P. Histoire secrète des Mongols: Restitution du texte mongol et traduction française des chapitres I à VI. – P.: Adrien-Maisonneuve, 1949. – 199 p.
- Pelliot P. Notes critiques d’histoire kalmouke. – P.: Librairie dʹAmérique et dʹOrient, Adrien-Maisonneuve, 1960. – Vol. I: Texte. – VI, 237 p.
- Rashiduddin Fazlullah’s Jami u’t-tawarikh: Compendium of Chronicles / trans. and annotation by W.M. Thackston. – Cambridge: Harvard University, 1998. – Pt. 1: A History of the Mongols. – XLIV, 244 p. – (Sources of Oriental Languages & Literatures; vol. 45; Central Asian Sources; vol. IV). Rybatzky V. Die Personennamen und Titel der Mittelmongolischen Dokumente: Eine lexikalische Untersuchung. – Helsinki: Yliopistopaino Oy, 2006. – 841 S.
- Serruys H. Mongols Ennobled During The Early Ming // Harvard Journal of Asiatic Studies. – 1959. – Vol. 22. – P. 209–260.
- Serruys H. The Offi ce of Tayisi in Mongolia in the Fifteenth Century // Harvard Journal of Asiatic Studies. – 1977. – Vol. 37, N 2. – P. 353–380.
- Smedt A., de, Mostaert A. Le dialecte monguor parlé par les Mongols du Kansou occidental. – Peking: Imprimerie de l’Universitè Catholique, 1933. – Pt. III: Dictionnaire monguorfrançais. – 521 p.
- The Secret History of the mongols. Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century / trans. with the historical and antr. comm. by Igor de Rachewiltz. – 2004. – Vol. I. – 1348 р.