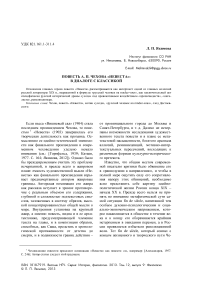Повесть А. П. Чехова "Невеста": в диалоге с классикой
Автор: Якимова Людмила Павловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Отношения главных героев повести «Невеста» рассматриваются как интертекст одной из главных коллизий русской литературы XIX в., выраженной в формуле «русский человек на rendez-vous», как заключительный акт специфически русской исторической драмы «ухода» под провокативным воздействием «пропагандиста», «нигилиста», революционера.
Короткий адрес: https://sciup.org/147218956
IDR: 147218956 | УДК: 821.161.1-311.4
Текст научной статьи Повесть А. П. Чехова "Невеста": в диалоге с классикой
Если пьеса «Вишневый сад» (1904) стала последним произведением Чехова, то повестью 1 «Невеста» (1903) завершилась его творческая деятельность как прозаика. Осмыслению ее идейно-эстетической значимости как финального произведения в современном чеховедении уделено немало внимания (см.: [Горнфельд, 1939; Катаев, 1977. С. 164; Якимова, 2012]). Однако было бы преждевременным считать эту проблему исчерпанной, и прежде всего в жанровом плане: емкость художественной мысли «Невесты» как финального произведения взрывает предначертанные автором жанровые границы. Авторская номинация его жанра как рассказа вступает в зримое противоречие с реальным объемом его содержания, глубиной и сложностью подтекстовых смыслов, заложенных в систему образов, высокой концентрированностью общей мысли о мире. Внутренняя установка на крупный жанр, а именно повесть, видна и в ее архитектонике, предусматривающей членение текста на главы, и в композиции образов, способных, как Саша, предстать в хронологической протяженности от детства до смерти, и в подвижности границ действия – от провинциального города до Москвы и Санкт-Петербурга, и т. д. Далеко не исчерпаны возможности исследования художественного текста повести и в плане ее мета-текстовой насыщенности, богатого арсенала аллюзий, реминисценций, мотивно-интер-текстуальных пересечений, восходящих к различным формам культурно-исторического претекста.
Известно, что общим местом современной писателю критики было обвинение его в «равнодушии к направлению», и чтобы в полной мере ощутить силу его сопротивления напору этих обвинений, необходимо ясно представить себе картину идейнополитической жизни России конца XIX – начала ХХ в. Прежде всего нельзя не принять во внимание метафизической сути самой ситуации fin de siècle, напитанной тем особым духовно-психологическим и социально-экономическим напряжением, которое накапливается в обществе в течение века и к концу его оборачивается крайним нетерпением в ожидании перемен, а в России проявляется избытком революционной воли. Тот fin de siècle, который совпал с концом жизненного и творческого пути Че- хова, предстал предельно четко. Вызревание различного рода рецептов общественного спасения, идеологических доктрин и учений, течений и направлений происходило в ускоренном порядке, так что идеологические «отцы и дети» подчас оказывались современниками. Так в духовном обороте общества конца XIX – начала ХХ в. одновременно оказались и все разновидности марксизма – от легального до подпольнорадикального, и разные формы народничества – от мирного «хождения в народ» до беспощадного терроризма, и многочисленные модификации толстовства – от вегетарианства, непротивления злу, нравственного самоусовершенствования до создания зем-ледельчески-трудовых артелей; тут же и «теория малых дел», и многочисленные формы заемной философии от Шопенгауэра и Ницше до социального дарвинизма с его признанием права сильных и эксплуатации большинства меньшинством, и т. д.
К этому надо еще прибавить обостренность религиозно-церковных и культурнохудожественных исканий, утрату целостности единомонолитной веры в православие, актуализацию богоискательских и богостроительских идей, кризис классического реализма и бурное развитие авангардизма в искусстве.
В этой атмосфере бурления идеологических страстей писателю как таковому стоило больших трудов не поддаваться стороннему влиянию, сохранить свою творческую идентичность, что же касается Чехова, то желающих «пристегнуть» его талант к тому или иному течению было более чем достаточно.
Сила внутреннего самостоянья писателя, сталкиваясь с ему же свойственной широтой толерантности, подвергалась многим серьезным испытаниям – одновременной близостью к таким духовно непримиримым столпам общества, как Толстой и Горький, с одной стороны, а с другой – как личная дружба с известным своими консервативными убеждениями издателем А. Сувориным.
Феноменологический склад ума и склонность к «общей мысли» о мире отводили от опасности подвергнуться очередному «веянью». И то, что он не был «ни либералом, ни консерватором, ни постепеновцем, ни монахом, ни индифферентистом» [Чехов, 1976. Т. 3. С. 11], позволило ему остаться в фарватере духовной жизни современности и в художественно убедительных образах запечатлеть то общее и непреходящее, что всегда определяло сущностные стороны человеческого сознания в его отношении к действительности, позволило сосредоточиться на том, что русские философы, осмысляя итоги первой русской революции, определили как извечный конфликт человечества, как «исконность и непримиримость борьбы между религиозным настроением, пытающимся сблизить человеческую жизнь со сверхчеловеческим и абсолютным началом, найти для нее вечную и универсальную опору, – и настроением нигилистическим, стремящимся увековечить и абсолютизировать одно лишь “человеческое, слишком человеческое”» [Франк, 1991. С. 167–168].
До первой русской революции Чехов не дожил всего лишь полгода: он умер в июле 1904 г., на 44-м году жизни, далеко не исчерпав отпущенный человеческой природе резерв земного времени. В отличие от современников и ровесников Бунина и Горького, ему не довелось стать свидетелем перманентной череды нежданных социальных потрясений ХХ в. И сегодня особое внимание обращает то, как в степени зеркальной точности переглянулись и отразились друг в друге концы двух последних столетий, как многозвучно перекликнулось чеховское время с нашими девяностыми и нулевыми годами.
Можно сказать, что ситуация не изменилась и по сию пору: неспособность сместить акценты с надежды на очередную «пере-стройку»-переворот, перевести стрелки на гармонизацию внутреннего мира человека, на « будничную, не знающую завершения деятельность (курсив мой. – Л. Я. ), руководимую непосредственным альтруистическим чувством» [Там же], сохраняется, все более отстаиваясь в формах моральноэтической легитимности, что придает творчеству Чехова в наши дни новую актуальность, во многом объясняя высокую меру его востребованности у современного читателя.
Может быть, на первый взгляд покажется нелогичным, даже парадоксальным то, что, будучи человеком, свободным от идеологических пристрастий, тем более ни в малой степени не склонным к революционным взглядам, Чехов оказался в числе тех, кому удалось отразить особенности нигилистиче- ской этики, лежащей в основе революционного поведения, акцентировать внимание на тех сторонах человеческой нравственности, которые неминуемо ведут к крайностям либерализма, радикализму, экстремизму, избыточности революционной воли. Последнее из прозаических произведений Чехова – повесть «Невеста» (1903) представляет в этом отношении особый интерес. И то, что эта повесть была последней в творчестве писателя, значимо столь же, как значим ее финал, как значимы вообще могут быть в литературе финальные сущности, принимающие на себя дополнительные смысловые нагрузки, в том числе и не исключающие высокой роли духовного завещания.
Поздний период творческого и жизненного пути Чехова в целом отмечен сложной динамикой художественных исканий, в своем роде чертами итоговости, и последние произведения – пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и повесть «Невеста» в полной мере вобрали финальные интенции чеховского творчества, предстали во всем богатстве его финальных обертонов.
В последние годы заметно увеличивается дистанция между выходом в свет одного произведения и созданием другого. Творческий процесс утрачивает внешнюю, видимую интенсивность, что, однако, не имеет ничего общего с пресловутым «творческим спадом». Творческая мысль по-прежнему отличается экстенсивностью, множество тем, сюжетов, человеческих типов и характеров ждут своего художественного воплощения, но сам темп творческой работы становится иным. «Больше думал, чем писал» [Чехов, 1979. Т. 9. С. 112], – в процессе работы над пьесой «Три сестры» признается он в письме к О. Л. Книппер-Чеховой. Это зримо сказывается на повествовательной структуре и образной системе произведений.
На первый план выдвигается интрига мысли, духовное напряжение, поиски ответа на вечный вопрос Бытия – «Зачем мы живем?», ставящие персонажа в положение «думающего по преимуществу», испытывающего потребность в философии жизни. «Ужасно хочется философствовать!» – восклицает Вершинин в пьесе «Три сестры». Но ту же склонность к философическому обдумыванию жизни Чехов открывает и в человеке из народа. Все значимей становится фигура умудренного жизненным опытом старика, в своем роде народного философа, способного к осознанию мира не в узких рамках сиюминутного интереса, а в неизбывно вечных, важных всегда и для «каждого!» ценностях, обретающих силу нравственного закона, высшей непреложности и находящих выражение в чеканной точности высказываний то сотского («цоцкай», как называет себя он сам) из рассказа «По делам службы» (1899), убежденного, что «неправдой не проживешь», то деревенского мужика из рассказа «Новая дача» (1899), уговаривающего дачную барыню: «Потерпи, и все обойдется», то старого плотника по прозвищу Костыль из повести «В овраге» (1900), считающего, что «кто трудится, кто терпит, тот и старше». По сути дела, в мыслях и высказываниях разных героев многих произведений позднего Чехова постоянно конкретизируется, находит живое, жизненно реальное воплощение та нравственная константа, которая складывается в сознании героя рассказа «Студент» (1894) Ивана Великопольского, когда глухой и нелюдной ночью возвращаясь домой и отогревшись у ночного костра двух вдовых огородниц, он «думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на Земле» [Чехов, 1977. Т. 8. С. 309].
Разлитое в общественной атмосфере конца века нетерпеливое ожидание перемен отозвалось в произведениях Чехова обостренным сознанием ответственной связи настоящего с будущим, буквально взрывом футуристически окрашенного дискурса. Удивительна та настойчивость, с какой герои позднего Чехова вглядываются в земные перспективы через сто, двести, тысячу, даже миллион лет, ни в малой степени не связывая их с путями общественного радикализма. В пьесе «Дядя Ваня» (1897) доктор Астров связывает эти дальние перспективы с тем, что позднее получило определение экологии, с сохранно-бережным отношением к природе, прежде всего к русскому лесу: «Русские леса, – с болью говорит он, – трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи…» [Чехов, 1978. Т. 13. С. 72].
В пьесе «Три сестры» футуристически окрашенный настрой мысли войдет в повседневное течение жизни не одного, а многих, даже большинства героев, что в полной мере выявит глубину феноменологической позиции автора. Понимание человека как неразгаданного феномена Бытия предстанет в диалектически неразрывном единстве его неизменной сущности и неизбежной подверженности влиянию конкретно данных жизненных обстоятельств, что верно и наоборот: влияние текущих событий жизни не отменяет сохранности сущностных черт человеческой натуры. «…После нас, – рассуждает барон Тузенбах, – будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет также вздыхать: “ах, тяжко жить!” – и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти» [Там же. С. 146]. И проведя героев своих поздних произведений через многие испытания родственносемейными и имущественными потерями, будь то Алексей Лаптев из повести «Три года» (1895), Вера Кардина из рассказа «В родном углу» (1897) или герои его последних пьес, Чехов не лишает их ни воли к жизни, ни желания жить, ни способности испытывать радость и счастье, даже от безответной, как у Сони Серебряковой к доктору Астрову, любви, когда осознание безостановочно движущегося времени предстает не просто как важная сторона Бытия, а как само Бытие, пребывание в котором сопряжено с поисками смысла этого пребывания, когда понимание полноты жизни включает неизбежность страдания, терпения, надежды на будущее. Тот же тип жизненного поведения характеризует Соню и сестер Прозоровых: «О, милые сестры, – звучит в финале пьесы, – жизнь наша еще не кончена. Будем жить!.. и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!» [Там же. С. 189].
Отличительную особенность творческой работы позднего Чехова, соотносящуюся с его признанием «больше думал, чем писал», составляет и то, что можно назвать повышенной требовательностью к смысловой точности текста, что определяет скрупулезный отбор деталей повествования, в силу чего происходят существенные перемены в творческой лаборатории писателя: возрастает число черновых вариантов произведения, количество предшествующих окончательной публикации корректур, почему, например, «нет, пожалуй, ни одной фразы, которая неизменной вошла бы в печатный текст» [Чехов, 1977. Т. 10. С. 472] повести «Невеста».
В результате такого творческого поведения, когда «больше думается, чем пишется», закономерно следует расширение культурологического диапазона художественной мысли писателя: возрастает глубина проникновения в опыт русской классики, обостряется заинтересованность в диалоге со своими предшественниками. Подтверждением этому служат и собственные признания автора в процессе воплощения замысла «Невесты». «Пишу, – сообщает он в письме О. Л. Книппер-Чеховой от 26 января 1903 г., – рассказ для “Журнала для всех” на старинный манер, на манер семидесятых годов». «Говоря о семидесятых годах, – комментируют это письмо авторы Примечаний к 10-му тому Полного собрания сочинений в 30-ти томах, – Чехов, вероятно, имел в виду рассказы, повести и романы того времени о девушках и женщинах, уходивших из дома (как у Тургенева в его стихотворении в прозе “Порог”» [Там же. С. 465].
Однако историко-литературный и в целом культурологический контекст чеховской повести в действительности оказывается более богатым, уходя в глубины той нарративной ситуации, которая составляет исключительную особенность русской литературы и касается устойчивого сюжета взаимоотношений девушки, чаще всего в возрасте невесты, и ее избранника, выступавшего одновременно в роли ее духовного вдохновителя и наставника. Характерно, что в этой роли представал человек, отмеченный чертами крайнего неприятия существующего мира и вооруженный программой его радикальной перестройки, не исключающей разрушения «до основанья». Погибший на революционных баррикадах Франции Рудин, «нигилист» Евгений Базаров, такой же непримиримый отрицатель существующих устоев Марк Волохов, «пропагандисты» новой жизни Лопухов 2 и Кир- санов выступают как агенты освободительного влияния на судьбы доверившихся им женщин, побуждая их к разрыву с семейным гнездом. Через искушение «ухода», «освобождения» так или иначе проходят и Наталья Ласунская («Рудин»), и Елена Стахова («Накануне»), и Вера («Обрыв»), и Вера Павловна Розальская («Что делать»), и многие другие героини известных произведений.
Сюжетно-фабульная модель «невеста» – «пропагандист новой жизни» надолго обретет в русской литературе XIX в. устойчивый характер, проходя по самому центру исканий художественной мысли. Традицию изображения судьбы блудной дочери – девичьего ухода, бегства из отчего дома (см.: [Богодерова, 2012. С. 48–61]) можно уводить как угодно глубоко, начиная, например, с «Бедной Лизы» Карамзина, продолжая историями пушкинских героинь из повестей «Станционный смотритель» и «Метель». Однако пройдет немного времени, и «уход в любовь» сменится в литературе «уходом-освобождением» с уклоном в женскую эмансипацию. Знаковая в этом смысле роль закрепляется за романом Чернышевского «Что делать», где «уход» Веры Павловны сопряжен уже с преданным служением революции как «фантастической невесте», т. е. «Невесте» всех женихов, сестре своих сестер», когда поиски личного счастья происходят в неразрывной связи с мечтой о «новой светлой жизни» для всех. Таким образом, в характерной для русской литературы XIX в. персонажной паре «невеста – пропагандист» одинаково важным оказываются оба нарративных аспекта: как гендерный, связанный с изображением хода женской эмансипации, так и идеологический, относящийся к сфере поисков путей общественного спасения. При этом, разумеется, не следует упускать из виду и то, что логике нигилистического поведения в литературе противостоял мощный заряд созидательной энергии, характерный для персонажей типа Штольца, Соломина («Новь» Тургенева), Тушина («Обрыв» Гончарова), Окоёмова («Без названия» Мамина-Сибиряка) и др. И хотя рецептивно-герменевтический натиск на литературу в духе утопи-чески-романтического революционизма был высок и временами даже подавлял смысловую подлинность произведений, важно, что в глубине литературы не иссякал позитивно- созидательный потенциал, способствовавший сохранению здорового национального духа России. Последние произведения Чехова служили тому неопровержимым доказательством.
Позднее творчество Чехова совпало с временем, когда герой в образе лишнего человека с его пассивным неприятием действительности уступил место активному отрицателю – нигилисту, пропагандисту, революционеру, когда на историческую арену вышел буревестник, трибун, подпольщик: «Теперь, – утверждал тогда Горький, – совершенный человек не нужен, нужен боец, рабочий, мститель» (см.: [Летопись…, 1971. С. 355]). Для понимания повести «Невеста» как финального произведения важно то, что, обратившись к воплощению стержневой для русской литературы сюжетно-фабульной модели, Чехов подверг ее коренному переосмыслению, высветив в ней эмоционально-психологические, нравственно-эстетические, социально-исторические грани, в наибольшей степени соответствующие духу fin de siècle и одновременно выявившие с годами возросшую в его творческом поведении склонность к «подрыву банальностей».
В новом свете предстает типичная для национальной культуры ситуация «русский человек на rendez-vous»: со склонной к «уходу» женщины писатель снимает привычный флер героизма и романтизма, погружая рассмотрение события разрыва с общественными и семейными устоями в суровую и неуступчивую реальность, требующую многостороннего взвешивания сложившихся обстоятельств, трезвого взгляда на последствия смелого поступка. Если отрешиться от гипнотического воздействия традиции трактовать повесть «Невеста» без должного учета всех скрытых в ее тексте эмоционально-смысловых сигналов, разного рода мотивно-интертекстуальных пересечений, типологических схождений, семиотики имен героев и прочих средств художественной связности (когезии), то шумные надежды Надежды Шуминой на «новую светлую жизнь» предстанут скорее в иронически-скептическом, нежели призывно-утвердительном аспекте.
На своеобразие стилистической структуры повести исследователи обращали внимание постоянно, но и сегодня ее целевые интенции нуждаются в осмыслении. Окру- жающий мир представлен автором в восприятии героини, и примечательно, что текст повествования об этом восприятии характеризуется избыточностью модальных конструкций, буквально переполнен стилистическими оборотами с использованием разного рода «почему-то», «может быть», «как будто», «кажется» и «казалось», «если бы» и «так бывает», знаменательно завершаясь в финале оборотом «как полагала». При тщательности работы писателя над словом вопрос о случайности такого рода избыточности определенного рода стилистических оборотов не стоит. Речь может идти лишь о глубоко осознанном намерении автора усилить в повести атмосферу зыбкости, призрачности, придуманности того мира, в который погружено сознание героини, отгородившейся от реальных отношений с живыми людьми мечтами, миражами, футуристическими видениями «другой», «новой, ясной жизни, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным!» [Чехов, 1977. Т. 10. С. 217].
Если согласиться с утверждением, что «повторение в немногословном мире Чехова – сильнейший индикатор авторской иронии» [Катаев, 1977. С.167], то нельзя не признать, что насмешливо-иронический эффект действительно возникает при восприятии «текста» Нади Шуминой. На фоне тщательно прописанных реалий жизни отчетливее видится умозрительность устремлений героини к «новой, ясной жизни», буквально режет слух лозунговая риторичность ее лексикона. Ей не интересны переживания матери, она пропускает мимо ушей замечания распропагандировавшего ее Саши об унизительном существовании прислуги, зато в мечтах ей «открывается нечто новое и широкое» [Чехов, 1977. Т. 10. С. 214] 3, «разворачивалось громадное, широкое будущее» (С. 215); она полнится предвкушением «легкой, беззаботной жизни», и «впереди рисовалась жизнь новая, широкая, просторная» (С. 220) и т. д. Наставническая программа Саши полностью совпадает с ее бездумной отданностью судьбе: «Поедете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится» (С. 204).
Эта настойчивость акцента на широте (широкости) и просторности Надиной мечты вступает в некое противоречие с узостью и безразличием ее мысли о последствиях ее поступка для жизни других, в данном случае для самых близких людей – бабушки и матери, для которых с ее уходом-бегством «прошлое потеряно навсегда и безвозвратно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости» (С. 217). Симптоматично, что в черновых вариантах повести «Невеста» печальные последствия бездумного поступка Нади предстают уже как картины тотальной порушенности семейного очага Шуминых, сломленности человеческих судеб. Утратила былую величавость и непререкаемый авторитет хозяйки дома бабуля, разладился привычный порядок. Постарела и душевно поникла мать, некогда увлекавшаяся спиритизмом, любившая рассуждать на философские темы, говорившая по-французски и принимавшая участие в любительских спектаклях.
Душевную черствость героини писатель дает почувствовать и в финале повести, когда, получив известие о том, что «вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеевич, или, попросту, Саша, бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду» (С. 219), а «она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром… живая, веселая покинула город – как полагала, навсегда» (С. 220).
Хотя повесть называется «Невеста», ее идейно-эстетическая цельность и внутренняя гармония держится на неразрывной соотнесенности двух главных героев: фигура Саши в ней столь же значима, что и фигура заглавной героини. По существу, в неразрывности нарративной связи Нади Шуми-ной и Саши предстает заключительный акт специфически русской исторической драмы «ухода» под влиянием «пропагандиста», агитатора, революционера. Если романтический туман, окружающий «невесту» в прошлом, оказался развеян, то еще больше появляется у читателя оснований сомневаться в состоятельности программы героя.
До сих пор оставлен без внимания скрытый подтекст номинации этого героя, дважды акцентированный писателем, притом в таких важных пунктах повествования, как его начало и конец: и при знакомстве читателя с героем – «это Александр Тимофеич, или, попросту, Саша» (С. 203), и в случае сообщения о его смерти – «скончался Александр Тимофеич или, попросту, Саша» (С. 219), и на протяжении всего повествовательного текста герой предстает в двусмысленной роли полубезымянного «попросту, Саши».
О том, что это далеко не случайный момент повествования, а продуманный творческий шаг, свидетельствуют черновые варианты «Невесты», где у Саши есть фамилия: «Кто-то вышел из дома и остановился на крыльце: это Саша Герасимов, гость, приехавший из Москвы дней десять назад» (С. 465). Есть и еще один вариант с упоминанием его полного имени: «Из дома вышел Саша Герасимов…» (С. 465). В черновиках у него есть родословная, даже биография, но в процессе работы над образом писатель предпочел оставить героя в состоянии без-родности и безымянности: это в большей степени отвечало глубине подтекстового звучания повести. Взятый бабулей на попечение «ради спасения души», Саша, по существу, перевернул судьбу всего рода Шу-миных, придав процессу его разрушения цепной и необратимый характер. Человек, оторванный от родной почвы, «блудный сын», лишенный семейных корней, собственного пристанища, определенной профессии, даже полного имени, он самовольно присваивает себе право наставлять и направлять других, и в этом смысле его фигура отдает коннотациями с теми фанатиками социального радикализма, в программе которых «перевертывание жизни» обретало самоцельное значение, превращалось в род профессиональной деятельности. Его наставническая программа в отношении Нади рассчитана на бездумную отданность судьбе, когда поступок опережает оглядку на возможные результаты и последствия, а средство представляется важнее цели: «Главное – перевернуть жизнь, а все остальное не важно» (С. 214). А о том, что перевертывание чужих судеб стало его жизненным призванием, говорит исполненная глубокого смысла сцена последней встречи с Надей, когда он сообщает ей о своей поездке на Волгу, где в Саратове и застанет его смерть: «А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек: все сбиваю ее… Хочу, чтобы жизнь свою пере- вернула» (С. 217). Соблазняя видениями прекрасного будущего, в своем роде «царства божия на земле», Саша исходит из необходимости тотального, «до основанья», разрушения существующей жизни, когда «не останется камня на камне – все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству» (С. 208).
Реальность такого человеческого типа для русской истории общественная жизнь России на перевале веков подтверждала с особой силой наглядности. Не дожив до самой революции 1905 г., Чехов в полной мере успел ощутить накал идеологической борьбы, сопутствующей ей, сам неоднократно подвергаясь обвинениям в невладе-нии «мировоззрением», отсутствии «направления», пренебрежении к «верованию», отстраненности от «борьбы». Само понятие «борьба» превращается в перманентное состояние общества, даже образ жизни определенных общественных кругов. В азарте идеологического самоутверждения происходит подмена жизни как таковой «потребностью борьбы», мирного развития – прово-кативным подталкиванием к «переменам», «перестройкам», «перевертыванию».
Подтверждением того, что Чехов отчетливо ощущал бесовский заряд такого рода утопических проектов, служат рукописные и корректурные материалы, опубликованные рядом с окончательным текстом «Невесты» в Полном собрании сочинений Чехова. Возвращаясь к характеру интертекстуального пространства повести, следует иметь в виду не только сквозную установку на архетип блудного сына или конкретные следы диалога с предшествующими и современными писателями, но и в широком смысле всю творческую атмосферу взаимодействия автора с образным миром литературы, оказавшим влияние на общую тональность произведения. Глубоко симптоматично, что до самого последнего момента подготовки повести к печати в его черновых вариантах сохранялся текст, свидетельствующий о том, что образ Саши создавался в соотнесенности с образной системой Достоевского. В окончательном виде повести сохраняется лишь упоминание о приятеле, с которым Саша собирается на Волгу и жену которого «сбивает», уговаривая, «чтоб жизнь свою перевернула», тогда как во всех без исключения черновых вариантах этот закадровый образ представлен развернутым рассказом Саши о литературных и идеологических пристрастиях «приятеля»: «Парень-то хороший, – говорит о нем Саша Наде, – только из Санкт-Петербурга, вот беда! Говоришь ему, положим, что мы вырождаемся, а он мне в ответ на это толкует о великом инквизиторе, о Зоси-ме, о настроениях мистических (курсив мой. – Л. Я.), о каких-то зигзагах грядущего – и это из страха ответить прямо на вопрос… Ведь ответить прямо на вопрос – страшно! Это все равно, как при столпотворении смешение языков: один просит топор, а ему в ответ поди к черту» (С. 295).
Рассказ Саши о «приятеле» позволяет видеть, в каких напряженных творческих исканиях проходила работа автора над образом Саши, в какой духовно-культурологический субстрат оказался погружен образ мыслей этого героя, его представлений о жизненных судьбах России. Хотя использованный в Сашином «тексте» образный ряд восходит к роману «Братья Карамазовы», в повести «Невеста» отчетливее проступают коннотации с романом «Бесы»: уж очень это Сашино « сбивать », т. е. провокационно подталкивать к перевертыванию жизни, перекликается с бесовским призывом героев романа Достоевского « делать смуту »: «Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ» [Достоевский, 1974. Т. 10. С. 322].
Сопоставление текстов Чехова и Достоевского – «Невесты» и «Бесов» – позволяет развеять сомнения относительно интертекстуальной природы программных высказываний Саши. Герои Достоевского «держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе» [Там же. С. 77]. Но и программные принципы Саши не менее радикальны, и они предусматривают наступление времени, когда «не останется камня на камне – все полетит вверх дном» (С. 208).
Суммируя суждения Саши, адресованные «сбиваемой» им Наде, нельзя не заметить, что, по существу, они складываются в своего рода парафраз, во многом просто другими словами передающий смысл главы «У наших». Характерно, что и сама человеческая природа, так сказать, фактура его личности близка одному из «бесов» Достоевского – Шатову. Отношения бабули – Саши в «Невесте» напоминают отношения Варва- ры Петровны Ставрогиной и Шатова, взятого ею на попечение. Если Сашу автор лишает фамилии, то у Шатова нет имени. Оба они «блудные сыновья», похожие друг на друга своей безымянностью, безродностью, социальной неукорененностью и тем чувством неблагодарности, которое питают к своей благодетельнице: Шатов «родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камергера ее Павла Федорова, был ею облагодетельствован» [Достоевский, 1974. Т. 10. С. 27].
Оба героя – фанатики отвлеченной идеи, ложной и опасной, гибельной не только для общества, но и для самих носителей ее: «Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уж раздавившим их камнем» [Там же]. Это говорится в «Бесах» о Шатове, но в равной мере может быть отнесено и к Саше. Обоих их «съела идея» (С. 469): «от чахотки скончался Александр Тимофеич, или попросту, Саша» (С. 219), жертвой бесовского сговора «наших» стал Шатов.
След открытой интертекстуальной переклички Чехова с Достоевским остался лишь в текстах подготовительных вариантов «Невесты», но духовная атмосфера близости их мироощущения в повести сохранилась. Чехов, словно лучом прожектора, проник в неизвестность нового века, провидчески предупредив мир о скрытой опасности людей такого типа, как Саша. И хотя нет в последней повести Чехова героя, противостоящего разрушительной логике полу-безымянного Саши и «сбитой» им с пути Нади Шуминой, противостоит им феноменологически обоснованная всем опытом человеческой истории авторская позиция. Необходимость различить ее отдельность от образа мыслей и поведения героев, «сбитых», опасно зараженных духом революционного времени, предстает как важная сторона творческого замысла повести «Невеста» и во многом объясняет тайну его притягательности для современного читателя.
Список литературы Повесть А. П. Чехова "Невеста": в диалоге с классикой
- Александров Б. И. Семинарий по Чехову. М.: Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1957. 274 с.
- Богодерова А. А. Семантическая близость мотивов уход в монастырь/скит и уход в народ в русской литературе второй половины XIX в.//Лирические и этические сюжеты и мотивы в русской литературе. Новосибирск, 2012. С. 48
- Горнфельд А. Чеховские финалы//Красная новь. 1939, № 8-9. С. 286-300.
- Достоевский Ф. М. Бесы//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 10. 520 с.
- Катаев В. Б. Финал «Невесты»//Чехов и его время. М.: Наука, 1977. С. 160-173.
- Летопись литературных событий//Русская литература конца XIX -начала ХХ в. 1901-1907. М.: Наука, 1971. 736 с.
- Франк С. Л. Этика нигилизма//Вехи. Интеллигенция в России. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 370-395.
- Чернышевский Н. Г. Что делать? М.: Худож. лит., 1984. 478 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974-1983.
- Якимова Л. П. Рассказ А. П. Чехова «Невеста» как финальное произведение//Лирические и этические сюжеты и мотивы в русской литературе. Новосибирск, 2012. Вып. 11. С. 61-87.