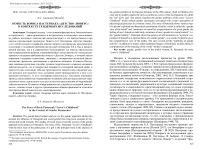Повесть Бориса Пастернака "Детство Люверс" в контексте гендерных исследований
Автор: Акимова Анна Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Гендерный подход - учет влияния фактора пола, биологического и социального, - давно применяется в исторических и социальных исследованиях, работы последних десятилетий свидетельствуют о его продуктивности при анализе произведений литературы. Повесть Б.Л. Пастернака «Детство Люверс» с его темой полового созревания девочки является центральным произведением в разговоре о гендерной проблематике русской литературы ХХ в. Как в прижизненной критике, так и в современных исследованиях эта повесть представлена как история развития ребенка, «завязывающейся» души девочки. В статье рассматривается гендерная проблематика повести «Детство Люверс», в которой нашли отражение гендерные стереотипы, связанные с восприятием мужчиной физиологических процессов, протекающих в организме женщины. В повести Пастернака показаны различные способы духовно-теоретического освоения человеком действительности, что в гендеристике называется «гендерной картиной мира» и трактуется как «осознание себя как представителя данного пола, ощущение своего женского или мужского тела, осознание своей принадлежности к полу в социальном контексте», то есть «гендерная идентичность». Пастернак показывает процесс самосознания как «переживание человеком себя как представителя определенного пола», в результате чего дает целостное представление об окружающей действительности. В повести обнаруживаются все «атрибуты гендерной деятельности»: помимо стыда к другим традиционным образам феминности относится постижение Женей смысла слов «мама беременна».
Гендер, гендерная картина мира, женщина, б. пастернак, повесть
Короткий адрес: https://sciup.org/149136582
IDR: 149136582 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00046
Текст научной статьи Повесть Бориса Пастернака "Детство Люверс" в контексте гендерных исследований
Интерес к гендерным исследованиям пришелся на рубеж 1990-2000-х гг, о чем в статье, посвященной основным понятиям гендеристики, писал И.И. Булычев [Булычев 2005, 1]. В это время происходило оформление понятийного аппарата, уточнение терминологии и формирование проблематики исследований. «Гендер», по определению Л.Н. Ожиговой, одна из базовых характеристик личности, обусловливающих психическое и социальное развитие личности [Ожигова, 2003, 164]. Н.Л. Пушкарева дает определение гендера как «комплексного переплетения отношений и процессов и в то же время фундаментальной составляющей отношений социальных, составляющей, укорененной в культуре, содержащей элементы устойчивости и изменчивости, представляющей одну из основ стратификации общества по признаку пола и в то же время рассматриваемой в неразрывной связи с его биологическими функциями» [Пушкарева 1998, 79]. Таким образом, гендерный подход - учет влияния фактора пола, биологического (sex) и социального (gender). Его применение к историческому анализу было предложено в статье «Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы», предметом которого становится «диалог полов» [Пушкарева 1998, 82]. Однако гендерный подход является продуктивным не только в исторических и социальных исследованиях, но и при анализе произведений литературы, в которых нашли отражение «культурные составляющие пола», то есть «связанные с предписанными обществами гендерными нормами, навязываемыми им стереотипами и путями социализации и идентификации» [Пушкарева 1998, 79].
Исследования творчества Б.Л. Пастернака последнего времени связаны с изучением переводов поэта [Резвый 2017], его биографии и художественного мира [Пастернаковский сборник - III 2020; Пастернак: проблемы биографии и творчества 2020]. Опираясь на исследования предшественников (Л.С. Флейшмана, М. Окутюрье, Ф. Бьёринг, Л. Силард, Л.Л. Горелик), в статье «От повести “Детство Люверс”» до романа “Док-

тор Живаго”» А. Хан писала о воплощении «всеобщей связанности космического масштаба со всем сущим» [Хан 2020, 7] в художественной системе Пастернака и, в частности, в повести «Детство Люверс», продолжая, таким образом, исследования темы «верстака жизни» («Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми, кто желает ей успеха и любит ее верстак» [Пастернак 2003-2005, III, 37]), предлагая новый взгляд на, пожалуй, одну из самых трогательных повестей Пастернака, одну из самых женственных в русской литературе XX в.
«Детство Люверс» с его темой полового созревания девочки является центральным произведением в разговоре о гендерной проблематике русской литературы XX в. Одним из первых о проблеме пола в повести «Детство Люверс» написал М. Окутюрье [Окутюрье 1998]. Его статья открывалась цитатой из «Охранной грамоты»: «Всякая литература о поле, как и самое слово “пол”, отдают несносной пошлостью, и в этом их назначение» [Пастернак 2003-2005, III, 178], - как доказательство «объективного рассуждения о проблеме сексуальных запретов и их значения с точки зрения вида и его эволюции» [Окутюрье 1998, 71]. Исследователь предпринял попытку показать значимость проблемы пола в процессе становления личности и преодоление Пастернаком традиционных сексуальных барьеров, характерных для его времени, что привело к «углублению в трагическую тайну бытия» [Окутюрье 1998, 72]. «Пол - это как бы средоточие трагической сущности жизни, той борьбы противоположных начал, которая проходит внутри ее», - писал Окутюрье [Окутюрье 1998, 80].
Как в прижизненной критике, так и в современных исследованиях повесть Пастернака «Детство Люверс» рассматривается как история развития ребенка, «завязывающейся» души девочки. М. Кузмин, назвавший ее рассказом о детстве, писал: «Но интерес Пастернака не в детской, пожалуй, психологии, а в огромной волне любви, теплоты, прямодушия и какой-то целомудренной откровенности эмоциональных восприятий автора» [Кузмин 1996, 135]. И К. Локс, и К. Мочульский писали о том, что в повести показано формирование художественного сознания. Современные исследователи также признают, что в заглавии, сюжете и мотивной структуре «Детства Люверс», явлена тема становления личности. В работе Л. Флейшмана рассматривается взросление героини повести. Под взрослением понимается «неоднонаправленное движение между непониманием и пониманием», а «Детство Люверс», таким образом, - это «повесть о “феноменологическом” прояснении познаваемого - через заблуждение, через туманное познание, о процессах “приведения к ясности”» [Флейш-ман 2003, 270]. Е. Фарыно считал, что «Детство Люверс» - повесть об открывшемся в детстве: об интуитивном постижении Женей смысла слов «мама беременна» и своей женственности [Фарыно 1993, 60]. Открытие мира девочкой-подростком как процесс творческого пересоздания мира художником рассматривает в своей монографии Л.Л. Горелик [Горелик 2000]. Андрогинизм (проникновение в сознание андрогина-подростка)

как один из наиболее характерных символистских приемов, по мнению О. Клинга, находит отражение в повести Пастернака [Клинг 2002, 48].
Процесс познания себя в мире и мира в себе показан в повести «Детство Люверс» (1918, опубл, в 1922). Взросление девочки Жени Люверс, ее впечатления организуют повествование и становятся предметом исследования автора. Генетически тема взросления ребенка восходит к работам отца, художника Л.О. Пастернака. Наблюдения над его рисунками нашли отражения в письмах к нему: «Женю ты рисовал так, что она постепенно росла согласно рисункам, следовала в жизни за ними, на них воспиталась больше, чем на чем-нибудь другом» [Пастернак 2003-2005, VIII, 758]. Л.О. Пастернак стремился запечатлеть разные возрастные периоды своих детей, так, в 1914 г. им был написан «Портрет дочерей», а спустя три года - «За книгой. Дочери художника» (1917).
В повести «Детство Люверс» показаны различные способы духовнотеоретического освоения человеком действительности, что в гендеристике называется «гендерной картиной мира» или «гендерной идентичностью», то есть «осознанием себя как представителя данного пола, ощущение своего женского или мужского тела, осознанием своей принадлежности к полу в социальном контексте» [Шабурова 2003, 67].
Повествование открывается словами: «Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме <.. .> Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для “Женечкиной комнаты”, - облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным» [Пастернак 2003-2005, III, 34]. Неосторожное движение кошки разбудило героиню, с него - внезапного пробуждения - автор показывает формирование души маленькой женщины. «История первой девичьей зрелости» [Пастернак 2003-2005, III, 41] связана с медвежьей шкурой. Центральное место в первой части («Долгие дни») занимает история первого кровотечения. Окровавленное место на шкуре, которое девочка хотела скрыть под слоем пудры, гувернантка-француженка, накричав на Женю, выстригла. Уличенная гувернанткой-француженкой в использовании пудры, пристыженная матерью, она не решается рассказать о первом кровотечении и попытке «затереть белым» пятно. Девочку пугает разговор взрослых, она не понимает его. Все наименования в нем табуированы: о Жене гувернантка говорит матери «ваша дочь», о пудренице - «эта вещь». Не от взрослых, а от реки, виднеющейся за окном, исходят поддержка и спасение: «Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решилась. Несмотря ни на холод, ни на урывни. И - бросилась. Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери про это» (курсив автора. - Б.П.) [Пастернак 2003-2005, III, 40]. Крик гувернантки, обида и боль в суставах вызывают ощущение собственной греховности в сознании подростка, с одной стороны, и невиновности - с другой: «Томящее и измождающее, внушение это было делом организма,
который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотечении какое-то тошнотворное, гнусное зло <...>. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту чернобурых шкур...» [Пастернак 2003-2005, III, 39]. Мотив «шкур» и «белой медведицы», а также «кошки» и «хризантемы» рассматривается Фарыно как знак «женского начала» [Фарыно 1993, 63].
При виде крови необъяснимым образом в памяти словно оживает история грехопадения человечества. Первое кровотечение напоминает о библейском грехе и собственной виновности: «Женя расплакалась <...> от того, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было - она это чувствовала - куда сквернее ее подозрений» (курсив автора. - Б.П) [Пастернак 2003-2005, III, 39]. Вскоре гувернантка была «разочтена за нераденье» [Пастернак 2003-2005, III, 41]; шкуры убраны на лето. Вяч.Вс. Иванов отмечал, что «и в прозе, и в стихах детство связывается с медвежьими чучелами как образами страха. Но вокруг чучела и начинаются все те трудности и путаница при необходимости различения мужского и женского родов...» [Иванов 2015, 291]. В дальнейшем вид луж, темных дорожных ям, свинцовых туч, напоминающих по форме и цвету шкуру медведя, будет вызывать у девочки в памяти историю с француженкой и, как следствие, тревогу и недоумение. Тема стыда занимает одно из центральных мест в современных гендерных исследованиях. Чувство стыда как проявление человеческой ранимости, уязвимости является чертой фемининной [см.: Thorgeirsdottir 2020, 5-6].
Кроме того, в повести обнаруживаются все «атрибуты гендерной деятельности»: помимо стыда к другим традиционным образам феминности относится постижение Женей смысла слов «мама беременна». Между мамой и дворничихой Аксиньей ей видится «какое-то неуследимое сходство» [Пастернак 2003-2005, III, 56], а мамин «новый шелковый капот без кушака» напоминает корабль. Важно заметить, что беременность и рождение ребенка в прозе Пастернака связаны с мотивом «корабля». В романе «Доктор Живаго» словно «только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда» [Пастернак 2003-2005, IV, 105] возвышалась посреди палаты родившая сына Тоня. В этом сопоставлении нашло отражение архаичное представление, согласно которому ладья отождествлялась с чревом, куда все уходит и откуда берет начало (о мифопоэтике романа см.: [Поэтика «Доктора Живаго» 2014]; подробнее о генезисе других женских образов: [Буров 2011]).
По замечанию Вяч.Вс. Иванова, «главное, что просыпается в это переломное время в Жене Люверс, когда в ней девушка-Инфанта выпархивает из девочки. В ней пробуждается главное, что и отличает человека от животного, - представление о Другом, ей равном человеке...» [Иванов 2015, 277]. Эта мысль находит развитие в другой статье ученого: Пастернак, как и молодой Бахтин, испытал влияние взглядов главы Марбургской философской школы Г. Когена на Ближнего и Другого, которые нашли отраже-
ние не только в «Детстве Люверс», но и в наброске, не опубликованном при жизни Пастернака, «Фантазии “Поэма о ближнем”» (1916/17). Пастернак показывает процесс самосознания как переживание человеком себя как представителя определенного пола, в результате чего дает целостное представление об окружающей действительности. Анализируя фабулу повести, И.В. Кузнецов и С.В. Ляляев приходят такому же выводу: «через подробное и настоятельное описание частностей и деталей, из которых косвенным путем собирается образ целого мира, и в том числе действия» [Кузнецов, Ляляев 2020, 91]. При этом исследователи неоднократно писали о «женственной» природе эмоциональности Пастернака, подчиненности, зависимости от мира, опираясь на высказывания самого поэта в стихах, автобиографической прозе, письмах, находя отголоски в прозе. О жалости к женщине в неопубликованных при жизни Пастернака стихах от лица женщины писал Вяч.Вс. Иванов:
И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей, И след поэта - только след Ее путей, не боле, И так как я лишь ей задет... [цит. по: Иванов 2015, 276].
О «пугающей до замирания жалости к женщине» писал сам Пастернак в «Людях и положениях» [Пастернак 2003-2005, III, 296]. В «Охранной грамоте» он упоминал об увиденном в Зоологическом саду весной 1901 г. отряде дагомейских амазонок. «Как первое ощущенье женщины связалось у меня, - писал Пастернак, - с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан» [Пастернак 2003-2005, III, 149]. Важным в понимании фемининности Пастернаком является письмо к Н.А. Табидзе от 30 сентября 1953 г:
Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на всю жизнь остался надломленным и ошеломленным ее красотой, ее местом в жизни, жалостью к ней и страхом перед ней. Я реалист, до тонкости знающий землю, не потому, что я по-донжуански часто и много развлекался с женщиною на земле, но потому что с детства убирал с земли камушки из-под ее ног на ее дороге. Немногие, имевшие со мною дело, - великодушные мученицы, так несносен и неинтересен я “как мужчина”, так часто бываю непоправимо и необъяснимо слаб, так до сих пор не знаю себя и ничего не знаю с этой стороны. Может быть, трогает их то, что издалека, издалека дотащилось все же до них это с детства им посвященное и с детства болью за них поколебленное, надорванное существование, по дороге еще разбитое высокою войной, которую оно за них вело. И может быть трогает их эта, всегда близкая женщине по воспоминаниям ее собственного детства, странная, столькое в жизни охватившая и все же до сих пор оставшаяся чистота [Пастернак 2003-2005, IX, 749].
О дуализме женской природы в романе «Доктор Живаго» Ларе говорит Юрий: «Человеческая, в особенности женская природа так темна и противоречива! - говорит он Ларе, - Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без принуждения» [Пастернак 2003-2005, IV, 398].
Необходимо заметить, что в западной гендеристике большое внимание уделяется содержанию понятия «женщина». С. Хаслангер дает определение женщины как субъекта, «зависящего в обществе от своих осознаваемых или воображаемых женских репродуктивных способностей» (“subordinated in a society due to their perceived or imagined female reproductive capacities’”) [Haslanger 2012, 8]. По мнению другого исследователя, С.Дж. Брайсона, «точное определение» женщины - «человек с известного рода физиологией» (“A positive definition of “woman”? Woman is a human being with a certain physiology...”) [Brison 2003, 192]. При этом именно в англоязычных гендерных исследованиях существует необходимость развести понятия ‘woman’ («женщина»), ‘girl’ («девочка»), ‘adult human female’ («взрослая особь женского пола»), ‘female human being’ («человек женского пола») [см.: Byrne 2020].
«Это мучение за женщину, раненность женской долей, - по признанию Вяч.Вс. Иванова, - пропитывает “Детство Люверс” и “эстафетой лирической истины”, о которой Пастернак писал в “Охранной грамоте”, передается дальше - к тому месту в “Живаго”, где Юре хочется в Барыкине защитить как от темной силы - змия-дракона - свою любовь, и вплоть до самых поздних стихов (“Женщины в детстве”) и пьесы» [Иванов 2015, 113-114]. Жалость к женщине, наполняющая всю биографию и творчество Пастернака, вероятно, определила восприятие его жизни и поэзии юной Е. Берковской, мемуары который пронизывает «“пастернаковская” атмосфера» [Гачева 2015, 215]. Причина такой отзывчивости поэта кроется, вероятно, в детстве и самых ранних переживаниях, о которых Пастернак писал в автобиографической прозе «Люди и положения»: «Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую я бы не поверил.
То на заре жизни, когда только и возможны такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока» [Пастернак 2003-2005, III, 306]. Желание познать Другого и, в частности, гендерную картину мира иного пола, испытанное в детстве, нашло отражение и в повести «Детство Люверс» и в романе «Юрий Живаго».

Список литературы Повесть Бориса Пастернака "Детство Люверс" в контексте гендерных исследований
- Булычев И.И. О содержании ключевых понятий гендеристики // Вестник ИГЭУ Вып. 2. 2005. С. 1-5.
- Буров С.Г. Игра смыслов у Пастернака. М.: Азбуковник, 2011.
- Гачева А.Г. Пастернаковский след в воспоминаниях Елены Берковской «Судьбы скрещенья» // Пастернаковские чтения. Исследования и материалы. Вып. 3. М.: Азбуковник, 2015. C. 215-225.
- Горелик Л.Л. Ранняя проза Пастернака: Миф о творении. Смоленск: СГПУ, 2000.
- Иванов Вяч.Вс. Пастернак. Воспоминания. Исследования. Статьи. М.: Азбуковник, 2015.
- Клинг О.А. Борис Пастернак и символизм // Вопросы литературы. 2002. № 2. C. 25-59.
- Кузмин М. Условности. Статьи об искусстве. Томск: Водолей, 1996.
- Кузнецов И.В., Ляляев С.В. Проза Бориса Пастернака: мир, образ, текст. Новосибирск: НГТИ, 2020.
- Ожигова Л.Н. Исследование гендерной идентичности гендерных стереотипов личности // Практикум по гендерной психологии. СПб.: Питер, 2003. URL: http://pedlib.ru/Books/3/0428/
- Окутюрье М. Пол и «пошлость»: Тема пола у Пастернака // Пастернаковские чтения. Вып. 2. М.: Наследие, 1998. С. 71-81.
- Пастернак Б. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.: Слово, 2003-2005.
- Пастернак: проблемы биографии и творчества. К 60-летию Нобелевской премии. М.: Азбуковник, 2020.
- Пастернаковский сборник - III. Статьи, публикации, воспоминания. М.: Литературный музей, 2020.
- Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении / под ред. B.И. Тюпы. М.: Intrada, 2014.
- Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы // Вопросы истории. 1998. № 6 С. 76-86.
- Резвый В.А. «Фальсификация Шекспира»: неизданная статья Георгия Шенгели о переводах Бориса Пастернака // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 3. C. 300-333.
- Фарыно Е. Белая медведица, ольха, мотовилиха и хромой из господ. Архипоэтика «Детства Люверс» Бориса Пастернака. Stockholm: Stockholms universitet, 1993.
- Флейшман Л.С. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб.: Академический проект, 2003.
- Хан А. От повести «Детство Люверс» до романа «Доктор Живаго» //Пастернаковский сборник - III. Статьи, публикации, воспоминания. М.: Литературный музей, 2020. С. 5-33.
- Шабурова О.В. Гендер // Социальная философия: Словарь. М.: Академический проект, 2003. С. 67-71.
- Brison S.J. Beauvoir and Feminism: Interview and Reflections. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Byrne A. Are Women Adult Human Females? // Philosophical Studies. 2020. № 177. P. 3783-3803.
- Haslanger S. Resisting Reality: Social Construction and Social Critique. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Thorgeirsdottir S. Shame, Vulnerability and Philosophical Thinking // Sophia. 2020. № 59. P. 5-17.