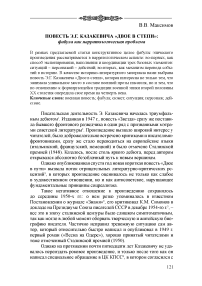Повесть Э. Г. Казакевича «Двое в степи»: фабула как нарратологическая проблема
Автор: Максимов Владимир Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 4 (19), 2011 года.
Бесплатный доступ
В рамках предлагаемой статьи конструктивное целое фабулы эпического произведения рассматривается в нарратологическом аспекте: во-первых, как способ экспонирования, наполнения и координации трех базовых элементов: ситуаций – персонажей – действий; во-вторых, как механизм перевода событий в историю. В качестве историко-литературного материала нами выбрана повесть Э.Г. Казакевича «Двое в степи», которая интересна не только тем, что занимала уникальное место в составе военной прозы писателя, но и тем, что по отношению к формирующейся традиции военной эпики второй половины ХХ столетия опередила свое время на четверть века.
Военная повесть, фабула, сюжет, ситуация, персонаж, действие
Короткий адрес: https://sciup.org/14914308
IDR: 14914308
Текст научной статьи Повесть Э. Г. Казакевича «Двое в степи»: фабула как нарратологическая проблема
Писательская деятельность Э. Казакевича началась триумфальным дебютом1. Изданная в 1947 г, повесть «Звезда» сразу же поставила бывшего фронтового разведчика в один ряд с признанными мэтрами советской литературы2. Произведение вызвало широкий интерес у читателей, было доброжелательно встречено критиками и писателями-фронтовиками, сразу же стало переводиться на европейские языки (итальянский, французский, немецкий) и было отмечено Сталинской премией (1948). Казалось, после столь яркого дебюта, перед автором открывался абсолютно безоблачный путь к новым вершинам.
Однако опубликованная спустя год новая короткая повесть «Двое в пути» вызвала поток отрицательных литературно-критических рецензий3, в которых произведение оценивалось не только как слабое в художественном отношении, но и как антисоветское, нарушающее фундаментальные принципы соцреализма.
Такое негативное отношение к произведению сохранялось до середины 1950-х гг: о нем резко упоминалось в известном Постановлении о журнале «Знамя»4, его критиковал К.М. Симонов в докладе на Президиуме Союза писателей СССР в декабре 1954-го г.5, -все это в эпоху сталинской цензуры было слишком симптоматичным, так как могло в любой момент оборвать творческую и житейскую биографию писателя. Частично исправил тревожную ситуацию сам автор, который относительно быстро написал и опубликовал в 1949 г. первый роман («Весна на Одере»), хорошо принятый читателями и тоже отмеченный Сталинской премией (1950).
Однако на протяжении почти пятнадцати лет Казакевичу не удавалось переиздать роковое произведение, и только после того как он написал специальное обращение в ЦК КПСС6, в котором согласился с
Новый филологический вестник. 2011. №4(19). -- высказанными в свой адрес критическими замечаниями, а также подробно изложил план предполагаемой переделки текста, повесть была опубликована вторично в новой редакции.
Острая литературно-политическая интрига, возникшая вокруг произведения, объяснялась тем. что Казакевич существенно нарушил основные принципы сформировавшегося в 1940-е гг. нарративного канона военной повести. История, рассказанная в произведении, не попадала в расклад магистральных сюжетных схем. Напомним основную событийную линию текста. Действие происходит в августе 1942 г. во время отступления советских войск от Дона к Волге и. следовательно. - к Сталинграду. Огарков, двадцатилетний начхим одного из полков, получает новое назначение при штабе Армии. Первый боевой приказ в качестве офицера оперативной связи Огарков не выполняет. Его отдают под трибунал, лишают звания и приговаривают к расстрелу. Решающим фактом столь сурового приговора становится то. что дивизия, в которую он не смог доставить приказ об отступлении. оказалась в окружении и была уничтожена7. Для того, чтобы решение трибунала было приведено в исполнение, необходимо его подтверждение Военным Советом, однако неразбериха внезапного отступления предоставляет приговоренному неожиданную отсрочку. В течение нескольких недель он и его конвоир, рядовой Джурабаев. пытаются догнать далеко ушедшие вперед части Армии, при этом часто оказываются вовлеченными в действия временно созданных войсковых подразделений. Во всех ситуациях Огарков проявляет себя как ответственный солдат и надежный товарищ. Это приводит к тому, что даже у Джурабаева изменяется отношение к приговоренному. Но - приказ есть приказ - и конвоир стремится, несмотря ни на что. доставить Огаркова в штаб Армии. Незадолго до исполнения этой цели, конвоир погибает во время налета вражеской авиации. Огарков получает полную свободу и может, скрыв факт решения трибунала, целиком изменить свою судьбу. Но в сложившейся ситуации он выбирает хотя и трудный, но единственно верный шаг: приходит в штаб Армии, так как в ходе прежних многодневных мытарств по степи осознает свою вину и признает необходимость сурового наказания. Повесть заканчивается пересмотром его дела, помилованием приговоренного и отправкой его на передовую без понижения в звании. В финале сообщается о том. что Огарков заканчивает войну в Германии, в звании капитана и в должности командира саперной роты8.
На первый взгляд, перед нами далеко не самая невероятная история. В таком случае возникает вопрос: что могло спровоцировать поток негативных отзывов и рецензий? Мы полагаем, что таких моментов было три. все они определялись оригинальностью фабулы повести.
Во-первых, автор выбрал в качестве базовой невыигрышную ситуацию9 отступления советских войск. То обстоятельство, что с само-
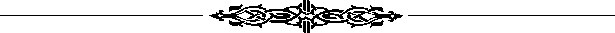
го начала в тексте возникает постоянный мотив «необратимого возвращения Армии назад», а в финале произведения изображается ситуация победоносного наступления советских войск уже на территории Германии, с одной стороны, затрудняло построение эпического мира в ценностно-смысловой перспективе чистой патетики, а с другой, становилось поводом для придирчивых критических доследований.
Во-вторых, не совсем удачным был выбор центрального героя10. Огарков отмечен не самыми выигрышными чертами: он наивен, малоопытен. обособлен от других, формально исполняет свои обязанности и допускает преступную неумелость при выполнении обязанностей офицера оперативной связи. В контексте военной прозы 1940-х гг. время таких центральных персонажей еще не наступило, они получат права гражданства только с 1970-х гг.
В-третьих, что касается действия 11 . то смещение авторского внимания с внешнего коллективного действия на внутреннее индивидуальное тоже было смелым экспериментальным шагом. Вообще следует заметить, что вопрос о масштабе, характере и доле вины Огаркова с самого начала становится открытым и дискуссионным. Дело в том. что автор использовал целый ряд мотивов, которые частично снимали ответственность с Огаркова и перераспределяли вину между более широким кругом причастных к преступлению лиц и инстанций.
Здесь следует указать прежде всего на то. что Огарков закончил краткосрочные командно-технические курсы и получил военную специальность и должность начхима полка, которая оказалась, по сути дела, в рамках этой войны невостребованной и ненужной, так как система подготовки командных кадров и военных специальностей была во многом ориентирована на ситуацию предыдущей мировой войны, учитывающей травматический опыт применения противником химического оружия. В то время как с точки зрения новой военной концепции. а именно «блицкрига», неприятель не предполагал вязких позиционных действий.
Далее, не стоит забывать и о том. что командир полка, отправляющий малоопытного лейтенанта для исполнения ответственных поручений. сам выполняет приказ комдива наполовину. Так. он откомандировывает Огаркова без ординарца и к тому же на раненом (хромом) и белом (демаскирующем в ночное время суток) коне.
Наконец, в обстоятельствах дела Огаркова разбирается следователь армейской прокуратуры, жена командарма, которая во время допроса постоянно помнит о своем сыне, погибшем зимой 1941 г. под Москвой. По роковому стечению обстоятельств его тоже звали Сергеем, он тоже был «светлым» двадцатилетним лейтенантом (подчеркнем эту четырехкратно усиленную эквивалентность разных пер- сонажей). Естественно, она не может не сравнивать этих двух лейтенантов. и это сравнение, конечно же. не в пользу Огаркова.
Повторим. Казакевич интегрирует в повествуемой истории два плана: внешний, который распространяется на саму ситуацию отступления армии в придонской степи, и внутренний, который касается процесса осознания и принятия Огарковым вины за свое преступление. Если панорамное изображение внешних коллективных действий было хорошо освоено военной прозой уже в рамках 1941-1945-х гг, то второе, психологически мотивированное изображение интериори-зованных действий было смелым художественным шагом в неизвестном направлении. Автор показал качественный рост самосознания человека, начиная от нулевого уровня (Огарков подписывает приговор. даже не читая текст, соглашается со всем, в чем его обвиняют), фиксируя моменты срыва (нерешительность, страх, малодушие, даже позерство) и завершая духовным и моральным преображением героя (поворотное эпическое событие происходит во время переправы Огаркова на лодке-димеггбке).
В целом следует отметить, что событийное пространство повести организовано по схеме «лиминальной сюжетной модели» (В .И. Тюпа) 12 . Фаза обособления проявляется в том, что изначально герой Казакевича, в силу своей ненужной специальности и отвлеченного мироощущения, поставлен в положение изоляции и отчуждения от военного жизнеуклада однополчан. Оригинальность автора заключалась в том. что он максимально удлинил эту фабульную фазу, так как положение арестованного, а затем и приговоренного выводило Огаркова за рамки существующих связей и обстоятельств, объединяющих других персонажей в единое коллективное целое уже не только полка, но и Армии. В такой же экстерриториальной позиции оказывался и второй центральный герой. Джурабаев. исполняя функции сначала часового, а затем конвоира, подчиняется только Уставу, это хорошо осознают все: и арестованный, и секретарь трибунала, и командиры временных частей. Действительно, в сложившихся обстоятельствах только «великий разводящий - Смерть - может снять часового с поста»13, что происходит ближе к финалу произведения. Итак, большая часть текста представляет собой изображение редкой ситуации и рассказ о парадоксальной паре «конвоирующий - подконвойный». которые действительно как бы вырезаны из общего контекста отступления армии, хотя они находятся в общем потоке, а значит, тоже отступают, но у них совершенно «особый Путь».
«Двое» находятся в сугубо формальных, субординационных отношениях. но по ходу развития действия нормативно-ролевая дистанция между ними начинает вытесняться экзистенциально-событийной границей. При этом Огарков совершает переход из роли в событие.
11 IF
^^^
Событийная перспектива произведения предполагала не один единственный. а несколько вариантов: оба персонажа остаются в живых, один из пары погибает (либо Джурабаев. либо Огарков); погибают оба. Казакевич выбирает средний вариант развития событий, который мотивирован не только идеологическим горизонтом произведения (преображением Огаркова), но и психологическим контекстом (неспособностью Джурабаева изменяться в принципе)14, поэтому конфликт между двумя стоит осмыслять как соотношение двух стратегий человеческого присутствия в мире на основании завершенного или незавершенного, сформировавшегося или формирующегося жизненного опыта.
Две другие фабульные фазы - партнерства и испытания - являются своеобразной системой «заданий» и «задач», которые должен решить герой. Это известная по моделям классической эпики сюжетная схема «череды испытаний» (основное, побочное, дополнительное)13. Герой, успешно проходящий испытания, на каждом уровне и этапе ретардирующих испытаний, получает некий набор меток, либо восстанавливающий. либо присуждающий ему определенный статус, в данном случае - статус «Воина». Такие же три ключевых испытания проходит Огарков, в ходе которых ему возвращают то. чего он лишился после приговора трибунала - оружие, звание, имя. и по сути дела, возможность будущего. В рамках данных фабульных фаз позиция Джурабаева становится во многом служебной и фоновой, он воплощает коллективную инстанцию Долга, а не личное начало Чести.
Ключевые и сигнальные мотивы фазы преображения рассеяны по всему тексту и суммируются в финальном символическом образе «двух степных теней», который постоянно всплывает в сознании Огаркова и возвращается его к предельному лиминальному16 опыту 1942 г.
Таким образом, повесть предполагала не одну, а несколько возможностей интерпретации: и как моноцентрический 17 нарратив о судьбе Огаркова; и как бинарный нарратив, построенный на притчевом сравнительном жизнеописании (Джурабаев - Огарков); и как полицентрическое повествование, включающие несоединимые событийные фрагменты о разных людях, ведущих себя по-разному, хотя и объединенных коллективной ситуацией отступления. Такое многообразие нарративных траекторий, сосуществующих в рамках одного литературного произведения, тоже было экспериментальным моментом, отличающим позицию Казакевича в контексте становящейся традиции современной военной эпики и ставшим общим достоянием только с начала 1970-х гг.
Список литературы Повесть Э. Г. Казакевича «Двое в степи»: фабула как нарратологическая проблема
- Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «о журнале “Знамя”» 27.12.1948//Культура и жизнь. 11 января 1949 г. Личный архив А.Н. Яковлева. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69490 (дата обращения: 8.12.2011
- Казакевич Э.Г. Слушая время; Дневники; Записные книжки; Письма. М., 1990
- Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова). Тверь, 2001. С. 32-34
- Казакевич Э.Г. Двое в степи//Знамя. 1948. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/ant/46-53_kazak.html (дата обращения: 8.12.2011)
- Смирнов И.П. От сказки к роману//Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXVII. Л., 1972. С. 284-320
- Максимов В.В. Спектр нарративных форм военной повести второй половины ХХ века (в печати)