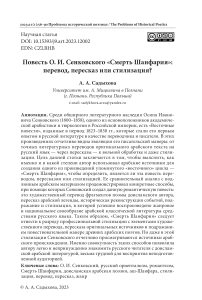Повесть О. И. Сенковского «Смерть Шанфария»: перевод, пересказ или стилизация?
Автор: Садыхова Арзу Ахмедовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Среди обширного литературного наследия Осипа Ивановича Сенковского (1800-1858), одного из основоположников академической арабистики и тюркологии в Российской империи, есть «Восточные повести», изданные в период 1823-1830 гг., которые стали его первым опытом в русской литературе в качестве переводчика и писателя. В этих произведениях отчетливо видна эволюция его писательской манеры: от точных литературных переводов оригинального арабского текста на русский язык - через пересказы - к вольной обработке и даже стилизации. Цель данной статьи заключается в том, чтобы выяснить, как именно и в какой степени автор использовал арабские источники для создания одного из произведений упомянутого «восточного» цикла - «Смерть Шанфария», чтобы определить, является ли эта повесть переводом, пересказом или стилизацией. Ее сравнительный анализ с подлинным арабским материалом продемонстрировал конкретные способы, при помощи которых Сенковский создал данную романтическую повесть: это художественный перевод фрагментов поэмы доисламского автора, пересказ арабской легенды, историческая реконструкция событий, подражание и стилизация, в которой успешно воспроизведено жанровое и национальное своеобразие арабской классической литературы средствами русского языка. Таким образом, «Смерть Шанфария» следует отнести к разряду профессиональной стилизации с элементами художественного перевода, пересказа оригинальных источников и подражанием повествовательной манере древних арабских поэтов. Но даже в этой стилизации Сенковского отчетливо просматриваются источники арабского происхождения. Именно совокупность таких способов позволила автору легко и непринужденно знакомить русского читателя с доисламской арабской литературой, весьма трудной для восприятия неподготовленной аудиторией.
О. и. сенковский, русский ориентализм, романтизм, смерть шанфария, доисламская арабская поэзия, аш-шанфара, стилизация, перевод, пересказ, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/147240153
IDR: 147240153 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12002
Текст научной статьи Повесть О. И. Сенковского «Смерть Шанфария»: перевод, пересказ или стилизация?
О сип Иванович Сенковский (Józef Julian Sękowski, 1800–1858), российский ученый, писатель и журналист польского происхождения, вошел в русскую словесность не только как создатель литературных произведений разных жанров, ставших классическими, но и как автор, внесший значительный вклад в развитие русского романтического ориентализма. Круг исследований об этом человеке и его творчестве настолько широк и многообразен, что только для обзора самых значительных трудов понадобилась бы специальная довольно большая статья1. Важной заслугой Сенковского является то, что он предвосхитил идеи Эдварда Саида (см.: [Serikoff]) и придал струе европейского ориентализма профессиональный характер. В произведениях Сенковского впервые в русской литературе был представлен не условно-иллюзорный образ Востока, а настоящий, подлинный и живой. В этой связи особенно важно выяснить, как именно востоковед знакомил русского читателя с богатой арабской культурой, какие способы и средства он использовал для воссоздания на русском языке национального и жанрового своеобразия арабской классической литературы. Ответ на поставленные вопросы сможет дать исследование поэтики «Восточных повестей и поэм» Сенковского, опубликованных в период 1823–1830 гг. Настоящая статья является первым шагом в этом направлении, в ней представлен анализ одной из повестей указанного цик ла — «Смерть Шанфария» (1828).
Хорошо известно, что Сенковский по своему основному роду занятий был ученым-востоковедом, самым молодым профессором в Европе, возглавившим кафедру арабской словесности Санкт-Петербургского императорского университета в возрасте 22 лет и бывшим ее бессменным заведующим с 1822 по 1847 г.2 Однако многогранная деятельность Сенков-ского выходила далеко за рамки сугубо научно-педагогической работы университетского профессора. Его истинным пристрастием все же оказалась литературная деятельность, включая журналистику и издательское дело, поэтому вполне естественно, что свои глубокие знания живого Востока ученый использовал и в этой сфере: «Основной результат его деятельности сказался, главным образом, в усилении ‘ориентализма’ в русской литературе…» [Крачковский, 1950: 107]. В отдельных исследованиях также отмечается, что роль этого автора «в развитии русской литературы не раскрыта еще в полной мере» [Данильченко: 109].
Вернувшись в октябре 1821 г. из двухлетнего путешествия по Востоку, Сенковский мгновенно уловил острую потребность российского общества в новых мотивах, сюжетах и образах и сразу же осознал, что перед ним открываются широкие перспективы представить русскому читателю подлинный восточный материал. К тому же в начале XIX в. жанр философско-назидательной «восточной» повести, до этого развивавшийся в рамках классицизма, находился в состоянии упадка: «…повести начала XIX века <…> были далеки от передовых запросов времени. Они или повторяли старое, или говорили о новом несмело и негромко. <…> Новое время требовало новых форм» [Кубачева: 314]. Понятно, что в таких условиях потенциал, которым располагал молодой, талантливый и амбициозный востоковед, таил большие возможности. Обстоятельства способствовали начинающему автору: в Петербурге он довольно быстро познакомился с известными русскими литераторами, в том числе с декабристами-романтиками А. А. Бестужевым (Марлинским) (1797–1837) и К. Ф. Рылеевым (1795–1826), которые с 1822 по 1825 г. издавали альманах «Полярная звезда». «Для истории русской романтической повести Бестужев-Марлинский — фигура первостепенно важная и характерная. Своими исканиями, бесспорными достижениями и даже ошибками он многим указал дорогу в литературе» [Сахаров: 11], именно он, будучи «творцом или, лучше сказать, зачинщиком русской повести» [Белинский: 272], помог молодому Сенковскому найти свой писательский стиль и свою форму «восточной» повести.
Востоковед Павел Савельев сообщает о близкой дружбе молодого ученого с А. А. Бестужевым (Марлинским), который редактировал ранние переводы Сенковского3. Их сотрудничество оказалось настолько плодотворным, что уже 8 февраля 1824 г. А. С. Пушкин в письме А. А. Бестужеву высоко оценил вторую повесть Сенковского «Витязь буланого коня»4.
2. «Смерть Шанфария»в цикле «Восточных повестей и поэм»
В состав цикла «повестей и поэм, переведенных с восточных языков»5, опубликованных в разных журналах и альманахах в период с 1823 по 1830 г., входят восемь произведений: «Бедуин» (с араб., «Полярная звезда», 1823), «Витязь буланого коня» (арабская касыда6, с араб., «Полярная звезда», 1824), «Деревянная красавица» (с татар.-азерб. наречия, «Полярная звезда», 1825), «Истинное великодушие» (с араб., «Полярная звезда», 1825), «Урок неблагодарным» (с персид., «Полярная звезда», 1825), «Бедуинка» (с араб., «Северные цветы», 1828),
«Смерть Шанфария» (с араб., «Альбом северных муз», 1828) и «Вор» (с араб., «Северные цветы», 1830). К этому циклу повестей примыкает также прозаический перевод поэмы Леби-да (560–661), опубликованный в 1838 г. в качестве иллюстративного приложения к научной статье «Поэзия пустыни, или Поэзия Аравитян до Магомета» («Библиотека для чтения», 1838, т. XXXI). Популярная повесть «Антар» («Новоселье», ч. 1, 1833) в этот цикл не вошла, так как, по замечанию издателя, «эта повесть не перевод с арабского и не заимствована из известного арабского романа "Антар", а оригинальное создание в духе арабской поэзии»7. По той же причине не вошли в этот цикл историческая повесть «Счастливец»8, основанная на восточных мотивах («Новоселье», ч. 2, 1834), и «Повесть» («Библиотека для чтения», 1834, т. VII). Отметим, что ни одна из трех последних повестей не имеет примечания «с арабского» в отличие от остальных. Следовательно, издатель и, вероятно, сам автор четко осознавали разницу между переведенными произведениями и собственно стилизациями, то есть «оригинальными созданиями в духе арабской поэзии». Именно поэтому издатель отграничил три последние повести и не включил их в «восточный» цикл произведений, переведенных (или пересказанных) с восточных языков. Как можно заметить, «Смерть Шанфария» поместили в группу переводов.
«Восточные повести» Сенковского привлекли внимание И. Ю. Крачковского, которому в 1946 г. удалось установить арабские источники для всех произведений этого цикла, кроме обсуждаемого. На основании проведенного сравнительного анализа исследователь пришел к такому заключению: «Если в первых по времени повестях Сенковский еще несколько придерживается арабского оригинала, то постепенно он отходит от него дальше и дальше, создавая на взятой канве уже свои собственные рисунки. Последовательная эволюция выступает очень отчетливо при рассмотрении этих повестей в хронологическом порядке их появления» [Крачковский, 1955: 236]. Оценивая «Смерть Шанфария», ученый констатировал, что «переводом считать ее никак нельзя и устанавливать текстуальную зависимость от арабских оригиналов нет необходимости» [Крачковский, 1955: 243]. Данной повести исследователь уделил лишь один небольшой абзац в своей работе, указав на возможные источники, из которых Сенков-ский черпал материал: это знаменитая литературная антология «Книга песен»9, составленная известным филологом Абу-ль-Фараджем аль-Исфахани (ум. 967), свод преданий о межплеменных войнах «Дни арабов», а также второе издание арабской хрестоматии французского лингвиста и ориенталиста барона Сильвестра де Саси (1758–1838) (см.: [Sacy, 1826: 134–142, 337–403]), в которое вошла касыда поэта аш-Шанфа-ры (ум. ок. 550)10, прототипа главного героя повести, с краткой информацией о нем. С этой точкой зрения соглашается другой исследователь, указывая однако на иной источник повести и на наличие в ней фрагментов перевода: «Переводческое своеволие "барона Брамбеуса" прогрессирует от рассказа к рассказу, принимая уже значительные размеры в "Смерти Шан-фария", где подлинным материалом является точно переведенная касыда "Лямият-араб"»11, составляющая незначительную часть повествования, а все остальное — романтическая фантазия Сенковского на тему немногих фактов из жизни поэта…» [Дердиров: 39–40].
Безусловно, с этими выводами И. Ю. Крачковского и М. Ф. Дер-дирова следует согласиться, но почему же тогда «Смерть
Шанфария» имеет примечание «с арабского» и помещена издателем в группу переводов? Представляется, что исследование поэтики данной повести, а в особенности авторского стиля, ответит и на этот вопрос.
3. От арабской традиции к романтической «восточной» повести
Арабский материал
Прототипом главного героя повести Сенковского является доисламский поэт Сабит ибн Авас из племени аль-Азд по прозвищу аш-Шанфара, то есть «губастый», чье историческое существование сегодня уже не вызывает сомнений (см.: [Jacob, 1914, 1915], [Stetkevych: 361–365], [Arazi: 301], [Gelder]). Касыду этого поэта, известную под названием «Ламиййат аль- ʿ араб»12, длиной в 68 бейтов 13, выдержанную в размере тавыль 14, а также краткие сведения о нем, почерпнутые из арабских источников, впервые в Европе опубликовал Сильвестр де Саси в арабской хрестоматии в 1806 г. (см: [Sacy, 1806a: 310–321], [Sacy, 1806b: 1–41]), а затем и во втором ее издании 1826 г. (см.: [Sacy, 1826: 134–142, 337–403]). Оба выпуска хрестоматии содержали арабский текст поэмы и научный перевод на французский язык с подробными комментариями.
Разночтения в прозвище (аш-Шанфара и Шанфарий) объясняются отсутствием определенного артикля во втором случае и двумя вариантами прочтения конечной буквы «йа»: либо как долгий звук «и» при наличии двух точек под ней, либо как долгий «а» при отсутствии двух точек под буквой. В первом издании хрестоматии прозвище поэта было напечатано как «аш-Шанфари» с двумя точками под буквой «йа» (см.: [Sacy, 1806b: 10]); однако во втором издании после сопоставления текстов нескольких рукописей ученый напечатал имя поэта уже без точек под последней буквой, то есть как «аш-Шанфа-ра», сопроводив данное уточнение подробным комментарием (см.: [Sacy, 1826: 345]). Тем не менее, Сенковский посчитал правильным первый вариант прозвища «аш-Шанфари»: так, в повести «Антар», написанной в 1832 г., упоминается «поэт и герой пустыни» Шанфари15, а в статье «Поэзия пустыни, или Поэзия Аравитян до Магомета», опубликованной в 1838 г., ученый снова воспроизвел прозвище поэта как «Шанфари»16.
Согласно сведениям, представленным Сильвестром де Саси в хрестоматии, аш-Шанфара по неизвестной причине разорвал отношения со своим племенем, стал бродяжничать по пустыне и нападать на стоянки бедуинов. Он бегал так быстро, что даже всадник верхом на лошади не мог его догнать. Однажды аш-Шанфара поклялся убить сто человек из племени Саламан. Когда он настигал какого-либо мужчину из этого племени, то всякий раз окликал свою жертву, предупреждая: «Эй, я попаду тебе в глаз!» — и пускал стрелу прямо в глаз бедняге. Так он прикончил 99 своих врагов, пока мужчины из племени Саламан не схватили аш-Шанфару и не убили его. Как-то раз один из них проходил мимо валявшегося на дороге черепа несчастного поэта; обозлившись, мужчина в сердцах пнул ногой череп аш-Шанфары, при этом острый осколок кости вонзился ему в ногу, и саламанит умер. Так поэт «убил» сотого врага после своей смерти, и его клятва исполнилась (см.: [Sacy, 1806a: 310–311]).
Более подробно биография аш-Шанфары представлена в самом авторитетном и полном источнике — «Книге песен». В этой литературной антологии говорится, что он был поэтом-изгоем, который скитался по пустыне и промышлял грабежами (см.: [Al-Iṣfahānī: 128–139]). Рассказывается также, что поэт в течение долгого времени был рабом у племени Саламан; а когда возмужал, то сбежал от своих хозяев, поклявшись убить сотню своих обидчиков в отместку за унижения. Аш-Шанфара стал убивать саламанитов, и никто из них не мог его одолеть. После того, как поэт убил 99 человек, мужчины из племени Саламан устроили засаду, поймали своего заклятого врага и жестоко расправились с ним:
«Когда аш-Шанфара был убит, голову его бросили при дороге, и вот однажды мимо проходил один из его убийц, он сильно ударил ногой по мертвой голове. Но черепная кость поранила ему ногу, и он умер. Так сотня убитых аш-Шанфарой стала полной» ( Аль-Исфахани : 111).
Аль-Исфахани сообщает еще одну версию предания о поэте. Во время очередного набега воины племени Саламан взяли аш-Шанфару в плен. Саламанит, которому достался поэт, заставил его пасти скот вместе со своей дочерью, и аш-Шанфара полюбил эту девушку. Узнав, что поэт принадлежит знатному роду, хозяин сказал, что выдал бы за него свою дочь, но опасается мести своих соплеменников, и тогда поэт гордо заявил, что уничтожит 100 мужчин из племени Саламан, если они убьют его будущего тестя. Растроганный саламанит отпустил аш-Шанфару на свободу и отдал ему в жены свою дочь. Разгневавшиеся соплеменники убили тестя аш-Шанфары, и за это поэт стал им мстить. Когда он убил 99 человек, мужчины из племени Саламан сумели хитростью изловить и умертвить поэта:
«Он провисел там распятый год или два, и его труп охранял человек из рода Бану Саламан. Однажды явился кто-то из их соплеменников, который отсутствовал все это время. Тело аш-Шанфары уже упало на землю, и тот человек ударил по черепу, желая отшвырнуть его. Вдруг ему в ногу вонзилась черепная кость, и от этого он умер. Так этот человек завершил сотню» ( Аль-Исфахани : 116).
В композиционном отношении легенда о доисламском поэте представлена в арабских источниках согласно средневековой литературной традиции в виде короткой цепочки отдельных, не связанных между собой эпизодов, хабаров 17 — неболь ших прозаиче ских фрагментов и стихов, к ним привязанных.
При этом прозаическая часть несет исключительно информационную нагрузку, а поэтическая — эмоциональную. Как видно, все хабары данной истории сводятся к разъяснению причин ненависти аш-Шанфары к племени Саламан и обстоятельств гибели поэта, отличаясь лишь в деталях. Узловой хабар — «убийство» сотого саламанита после смерти поэта — повторяется почти без изменений. В основе всех эпизодов лежит древняя легенда о мести поэта и неотвратимости наказания за совершенное зло. Очевидно, что все эти прозаические фрагменты возникли на основе устной традиции как более поздние комментарии к дошедшим до нас стихам аш-Шанфары.
Поэтические переводы поэмы и общая концепция повести
Поэма аш-Шанфары, впервые опубликованная в Европе в 1806 г., сразу же привлекла внимание как арабистов, так и поэтов. Первые усмотрели в ней попытку разрыва канона традиционной трехчастной арабской касыды18, а последних поэма пленила своими необычными образами и тропами, абсолютно иной эстетической системой, отличной от европейской. Популярность этой поэмы на Западе современные ученые справедливо связывают с литературным направлением романтизма первой половины XIX в. (см.: [Крачковский, 1956: 240], [Blachère: 285]), ведь образ поэта-разбойника, героя-одиночки, отстаивавшего свою честь, бунтаря, осмелившегося восстать против традиционного племенного уклада, а также мотив единства человека и дикой природы Аравийского полуострова — все это идеально отвечало принципам романтизма. Неслучайно именно эта касыда имеет множество поэтических и научно-филологических переводов на разные языки. Даже в конце ХХ в. именно эта поэма из всей ранней арабской поэзии вызывала наибольший интерес у западной аудитории (см.: [Sells: 5–6]). Сам Сенковский спустя 12 лет так оценил это произведение: «Стихи Шанфари можно почесть за лучшие и самые сильные из всей арабской словесности»19.
Многочисленные поэтические переводы и вольные интерпретации этой поэмы, выполненные в первой трети XIX в., оказали непосредственное влияние на литературный замысел Сенковского20. В конце 20-х гг. XIX в. только на польском языке почти одновременно появились сразу четыре поэтических переложения касыды аш-Шанфары. Их авторами были: Людвик Шпицнагель (Ludwik Spitznagel, 1806/1807–1827, Szanfary, 1827), его близкий друг Юлиуш Словацкий (1809–1849), представивший сразу две версии вольной интерпретации касыды с интервалом в год (Juliusz Słowacki, Szanfary I. Ułomki poematu arabskiego, 1828; Szanfary II. Poemat arabski, redakcja druga, 1829) и Адам Мицкевич (1798–1855) (Adam Mickiewicz, Szanfary, 1829). Мицкевич, с которым Сенковский был знаком еще со студенческих времен в Вильно, выполнил свое переложение сначала по французскому переводу Сильвестра де Саси, а затем внес коррективы, получив от Сенковского подстрочный перевод касыды с подробными комментариями21. В отличие от Мицкевича, Людвик Шпицнагель был арабистом и переводил непосредственно с арабского языка, зная древнеарабские реалии и художественные особенности произведения. Однако этот перевод остался незавершенным в связи с трагической кончиной автора 26 февраля 1827 г. Шпицнагель успел переложить лишь 35 бейтов из 68, что составило 92 стихотворных строки на польском, а перевод более ста лет оставался в рукописи и был опубликован лишь в 1932 г. (см.: [Siwiec]). Сохранились письма Юлиуша Словацкого, в которых поэт утверждал, что перевод Шпицнагеля превосходит обработку Мицкевича (см.: [Segel: 41]). Сенковский наверняка знал обо всех переводах, которые готовили его соотечественники, поэтому решил поступить иначе.
Видя столь необычайную популярность поэмы аш-Шанфары в Европе и принимая во внимание наличие нескольких поэтических переложений, Сенковский, вероятно, посчитал, что очередной перевод этой поэмы будет уже малоинтересен русскому читателю, к тому же не знакомому со спецификой древнеарабской поэзии. Скорее всего, именно поэтому он задумал представить читателям сюжет о доисламском поэте в прозе, взяв за основу легендарную биографию поэта и привлекая помимо самой касыды также материал из других арабских источников. Жанр романтической «восточной» повести, в котором начинающий литератор уже имел некоторый опыт, идеально подходил для этой цели. Однако и тут Сенковский столкнулся с проблемами. Во-первых, воспроизводить историю аш-Шанфары по арабским антологиям, как это было с предыдущими повестями, не имело смысла, поскольку в них легенда излагалась очень кратко, в виде отдельных эпизодов. Процесс трансформации этих фрагментов в связный рассказ так или иначе требовал восполнения пробелов в биографии доисламского поэта. Во-вторых, легенда о клятве и мести поэта, опубликованная в хрестоматии Сильвестра де Саси, интриговала всех, и читатели жаждали узнать подробности. Для широкой аудитории такая история однозначно требовала доработки путем вымысла недостающих сюжетных эпизодов и деталей. Учитывая перечисленные обстоятельства, Сенков-ский выбрал верную стратегию для написания данной повести: расширил сюжет за счет реконструкции событий, упоминаемых в касыде и в арабских источниках, добавив в повесть образы из арабской литературы и реалии из кочевой жизни бедуинов, которую он знал не только по книгам, но и по собственному опыту. Таким образом, легенду о поэте дополнили реальные события из его жизни, быта арабских племен, а также исторические факты.
4. Перевод, пересказ или стилизация?
События повести развиваются на протяжении примерно трех с половиной лет в центральной части Аравийского полуострова в доисламское время. Фабула повести довольно простая. Давняя вражда двух крупных племен Азд и Саламан22, затем вероломное нападение рода Саламан на Азд во время отсутствия главного героя — поэта Шанфария, в результате чего многие его сородичи вместе с его возлюбленной оказались в плену. Желая спасти пленников и отомстить обидчикам, главный герой попытался объединить остатки своего племени и поднять всех на борьбу против вражеского рода. Однако этот отчаянный план не удалось выполнить: морально разбитые и напуганные соплеменники не были способны оказать сопротивление. Тогда Шанфарий и два его преданных друга решили самостоятельно отомстить врагам, при этом герой повести поклялся в одиночку прикончить 100 мужчин из вражеского племени. Но после того, как Шанфарий уничтожил 99 своих противников, он трагически погиб вместе со своей возлюбленной и близким другом, которого сам же и убил, по ошибке приняв его за воина из вражеского рода. Через несколько лет после смерти поэта вождь племени Саламан коварный Асир, «злейший всех соотчичей своих»23, проходя мимо места смерти Шанфария, отпихнул ногой череп поэта, валявшийся у дороги. При этом острый осколок кости черепа вонзился ему в ногу, и спустя несколько дней Асир «испустил дух, в ужаснейших мучениях» (288). Так исполнилась клятва Шанфария.
Романтическая «восточная» повесть Сенковского, в основу которой легла древняя легенда о поэте, его клятве и неотвратимости наказания, содержит две сюжетные линии — авантюрно-героическую и целомудренно-любовную, что сразу же выдвинуло эту историю в разряд новых, необычных, а потому привлекательных произведений. Построение сюжета и обоснование сюжетного действия повести базировалось на борьбе главного героя за справедливость, за свободу своего племени и свое право быть счастливым, что, несомненно, вызывало симпатии и сочувствие читателей. В повести не было волшебства, чудесных превращений и любовных похождений, известных по сказкам «Тысячи и одной ночи»; не было в ней также надуманности, вычурности, сатиры и назиданий, свойственных «восточным» повестям рубежа XVIII–XIX вв. Обилие топонимов, реалий кочевой жизни бедуинов, живое и достоверное описание флоры, фауны и природных явлений Аравийского полуострова создавало иллюзию действительности, будто бы рассказчик был очевидцем этих событий. Одним словом, личность рассказчика располагала к себе и внушала доверие читателю, и в этом Сенковский полностью следовал принципам старой арабской поэзии. Поскольку мышление бедуина в доисламские времена было весьма конкретным, для него очень важны были детали, чтобы слушатель убедился в правдивости его слов; именно поэтому в старой арабской поэзии так много подробностей и топонимов, отсюда и фотографическая четкость в описании природы древними арабскими стихотворцами. На первой же странице повести читатель знакомится с «пустынями Неджда», «высотами Тудыха», «глубокими долинами Веджры», «Хеджазом», «водами Сейлана» и «ущельем Эль-Акса» (267). Все это — реальные топонимы Аравийского полуострова [Al-Hamdānī: 143, 127]. А вот как начинают свои поэмы древние арабские авторы:
Имруулькàйс :
Постойте, поплачем над жилищем заброшенным В сыпучих кривых песках Дахула и Хаумала! Стоянка любимой меж Микратом и Тудихом — Не стерлись ее следы, их буря не замела24.
Лабид:
Ты жилье в долине Мина узнаешь ли по следам? Чуть видны они на склонах Гуль, на горе Риджам. Обнажился след его на Райяне, как письмена, Где вода сбегает, смывая пыль, вниз по камням.
( Аравийская старина : 40).
Аль-Харис ибн Хиллиза :
Были в Халсе раскинуты их палатки, А потом в аль-Мухаййате за холмами, В ас-Саффахе, Фитаке, потом в Шурбубе, В Шубатане меж склонами и долами.
( Аравийская старина : 58).
В соответствии с требованиями средневекового канона арабский стихотворец должен был начинать свою поэму с детального описания места заброшенной стоянки племени, обязательно упоминая при этом конкретные топонимы, и Сенковский поступил так же, начав свой рассказ с подробного описания центральной части Аравийского полуострова, где происходили события его повести. Приведенные поэтические фрагменты указывают на заимствование данного повествовательного приема у древних арабских поэтов.
В этой повести рассказчик — вполне самостоятельный персонаж, который досконально знает не только географию, природу Аравийского полуострова, традиции, культуру и быт арабских племен. Это также философ, мудрец-сказитель, который мастерски владеет едва ли не всеми повествовательными приемами древних арабов. Его речь насыщена поэтическими формулами [Monroe], местными реалиями, рассуждениями о счастье и судьбе, а также реминисценциями из поэм доисламских авторов. При этом важную функцию выполняет пейзаж — он создает эмоциональный фон, предваряя события, и служит иллюстрацией для размышлений рассказчика о непостоянстве и бренности бытия: «Но чтò значит счастье человека?‥ оно непостояннее серого облака, блуждающего во влажном воздухе, после обильного весеннего дождя; оно ломче тонкой тростинки…» (268); или: «Одна только тростинка тонкая, сухая поднимается среди этого разрушения: судьба ее еще не исполнилась» (268). «Заветы судьбы неизбежны: стрелы ее достигают человека на высотах Тудыха и в глубоких долинах Веджры» (267), — так начинает свое повествование рассказчик и завершает его рассуждением о предопределении: «Когда наступит роковое время, напрасно человек ухищряется избежать гибели: если он уклонится от смерти в одном месте, встретит ее непременно в другом» (287). Все это созвучно с размышлениями древних арабских поэтов:
Лабид :
Ведь у судьбы такие стрелы, что метко бьют, Судьба решает, и все подвластно ее рукам.
( Аравийская старина : 43).
Тарафа :
Судьба забирает и достойного, щедрого, И скряги гнуснейшего богатства несметные.
( Аравийская старина : 33).
Зухайр :
Судьба ковыляет, как слепая верблюдица, Гадаешь, кого ударит каждый копыта взмах: Попала — и наповал убила злосчастного, А промах — и без конца ты мучишься в стариках. ( Аравийская старина : 39).
Ан-Нàбига аз-Зубьяни :
Преследует смертных судьба и всегда настигает, Судьбу же — увы! — ни поймать, ни вести в поводу25.
Подобные размышления о судьбе и предопределении — довольно частое явление в средневековой арабской поэзии. В доисламское время такие стихи обычно составляли часть касыды ; с приходом ислама на их основе развился отдельный жанр зухдиййат 26 — лирическая поэзия философско-аскетического содержания. В повести Сенковского мотив судьбы и предопределения является ключевым, а образ судьбы, пус кающей свои с трелы в людей, «срисован» с поэмы Лабида.
Небольшая сценка о лани, убегающей от волков, также является реминисценцией фрагмента поэмы Лабида:
«Уже дождь начинает падать редкими, но крупными каплями. Белая лань, уходящая от волков, растерзавших в горах двух ее детищ, едва успела скрыться под захирелое дерево, осеняющее скат холма, где дрожащие ее ноги скользят в песке, как вдруг удар грома раздробил оное…» (276).
Ср. у Лабида:
Она теленка без присмотра покинула, И достался он в добычу серым худым волкам. Теленка белого разодрали они в куски;
Она мычит в тоске и мечется здесь и там:
И так всю ночь бежит сайга в темноте без звезд.
А длинный ливень, из туч свисая, льет по холмам
И по спине ее он хлещет безжалостно, А ветер северный гонит тучи по небесам.
На краю песков приюта ищет она в дупле Одинокой пальмы — и снова мечется по кустам.
( Аравийская старина : 42–43).
Такого рода зарисовки — детальные описания флоры и фауны Аравийского полуострова, а также верхового животного, на котором едет поэт, — являлись обязательными компонентами классической касыды 27. Этот поэтический жанр назывался васф , т. е. «описание»; он был очень развит уже в доисламскую эпоху, о чем свидетельствует значительное количество небольших стихотворений такого жанра, сохранившихся до наших дней. Сенковский, подражая арабским стихотворцам, стремится передать их стиль, использует те же образы и сравнения. Кроме того, в доисламской поэзии широко употребляются образы-формулы: ветер, облака, тучи и дожди, несущие для бедуина желанную воду, — и вот примеры:
Имруулькàйс :
И снова дождь! Опять, стекая с крыш, Ты монотонно каплями стучишь. <…>
Струится дождь, уныл и непрерывен, И, наконец, свирепый хлынул ливень. С востока налетел внезапный шквал, И ветер южный вдруг забушевал.
Но, гнев излив и душу отведя, Стал затихать — и нет уже дождя.
( Арабская поэзия средних веков : 31–32).
Антара :
Тот луг оросило белесое вешнее облако,
В промоинах лужи сверкают, как россыпь монет.
Там ежевечерне дожди проливаются теплые, Часами струятся и медленно сходят на нет… ( Арабская поэзия средних веков : 70).
Аль-Аша :
За ней другая28 идет, полна воды, тяжела, И льет она без конца дождя широкий поток. ( Аравийская старина : 66).
Эти поэтические фрагменты, также относящиеся к жанру васф , демонстрируют, что древние арабские поэты весьма тщательно и с большой любовью описывали ветры, тучи, дожди и облака, потому что от этих природных явлений зависела жизнь в пустыне. Следуя за арабскими поэтами, рассказчик также использует эти образы в своей повести: «серое облако», «обильный весенний дождь» (268), «восточный ветер», «черная туча», «бурные облака» (275–276).
Частые обращения рассказчика к читателю создают ощущение живой и доверительной беседы: «Вы слыхали о Шан-фарии <…>?» (267); или: «Смотрите! уже лучи солнца выпили всю воду…» (268). Такой прием нередко использовали и доисламские арабские поэты: «Эй, люди, разве кто-нибудь увидит, / Чтоб наши отступали, ослабевая?» ( Аравийская старина : 54), «Долго ль будете вы молоть языками?» ( Аравийская старина : 61), «Ты видел тучу большую?» ( Аравийская старина : 66).
Чтобы усилить интригу, писатель ввел в повесть элементы сверхъестественного — это «зловредные дивы», которые «всегда имеют связи с злобными и коварными людьми» (270), «днем они появляются на равнинах Неджда в виде хромых гиен и серых волков; ночью же пируют в ущельях Акабы» (271), а также прорицательница Ханса, предсказавшая герою его трагический конец. В доисламские времена в арабском обществе прорицатели были особым социальным классом: перед тем как решиться на какое-либо важное дело, к ним всегда обращались за советом. Точно так же поступил и главный герой повести. Сенковский неспроста назвал свою гадалку именем известной доисламской поэтессы аль-Хансы (ум. 664), прославившейся элегиями на смерть своих братьев. Дело в том, что в доисламском арабском обществе поэты, как и прорицатели, тоже составляли особую высшую касту; считалось, что они способны «видеть» будущее, ведь недаром в арабском языке слово «поэт» происходит от глагола «знать», «постигать», «чувствовать», а поэтический талант и поэзия как высшая форма организации человеческой речи приравнивались к магии.
Основу сюжета повести составила романтическая легенда о клятве и мести поэта, а главный акцент сделан на идее справедливого возмездия, всегда настигающего злодея. Известно, что кровная месть была важным элементом этических отношений у арабов до ислама, и арабская книжная традиция сохранила массу таких примеров: известный поэт Имруулькàйс (ум. 540) мстил за своего отца; очень часто кровная месть порождала многолетние войны между племенами, в которые постепенно втягивались целые племенные союзы. Из текста поэмы аш-Шанфары ясно следует, что между героем и его сородичами произошла какая-то размолвка, из-за которой поэт был вынужден оставить свое племя и удалиться в пустыню. Намеки на этот конфликт читатель может увидеть уже в первых бейтах касыды 29:
«Я больше теперь не ваш, примкнул я к семье другой!», «С другими я породнился: с волком стремительным, / с пятнистым гепардом…», «Но гордой душе моей позора не вынести…» и т. п. ( Аравийская старина : 75, 77).
Содержится в касыде и указание на клятву:
«И длинными спутанными — ветер подул на них / И поднял густые пряди дыбом над головой. // Немыты уж год они…» (Аравийская старина: 79–80) — так описывает аш-Шанфара свои волосы, что по обычаю бедуинов означало обет не мыться и не стричься, пока давший клятву не исполнит свое обещание.
Причину этой ссоры невозможно понять из контекста поэмы, поэтому Сенковский ее придумал, основываясь на сообщениях о набегах бедуинов из свода преданий «Дни арабов». После того, как сородичи Шанфария отказались выступить против племени Саламан, главный герой повести произнес свою пламенную речь, которая, по сути, является художественным переводом начального фрагмента поэмы30:
«Друзья! поднимите с земли ваших верблюдов; я пойду искать других для себя товарищей. <…> Для честных есть в мире убежище от обиды <…>. На земле не бывает тесно человеку, одаренному умом и одушевленному благородными чувствами, стремится ли он к достижению предположенной цели, или избегает преследования злобных. В замену вас <…> друзьями моими будут быстроногий волк пустыни, пестрый леопард и гривистая хромая гиена: они не страшатся опасностей, не знают ни подлости, ни измены <…> …всегда я первый бросался на ваших неприятелей и всегда последний, при разделе добычи, протягивал победоносную руку для получения своей доли <…>. …Неустрашимое сердце, кривой меч мой и желтый дребезжащий лук, вот мои верные товарищи в благородном подвиге! Вы знаете твердость моего духа и мою решительность: ни голод, ни жажда, ни стужа, ни зной, никогда не были для меня препятствием в моих предприятиях» (274)31.
Последнее предложение монолога главного героя вобрало в себя ту часть касыды , которая традиционно называется фахр , т. е. «самовосхваление». В ней поэт в соответствии с каноном прославляет свои мужские качества, особо ценимые бедуинами: терпение, выносливость и умение преодолевать труд ности. Вот что говорит о себе аш-Шанфара:
Я мысли о пище отгоняю безжалостно:
Подолгу терпеть привык мой тощий живот пустой.
Я голую землю подстилаю для отдыха, Стараясь приникнуть к ней иссохшей своей спиной.
Я шел сквозь пустыню, а со мною попутчики — И стужа, и дрожь, и страх, и ливень, и мрак ночной.
( Аравийская старина : 76, 78, 79).
Можно без особого труда заметить, что Шанфарий, придерживаясь традиции, полностью воспроизводит фахр , так как это необходимый элемент древней касыды .
Эмоциональная клятва главного героя стилизована под коранические клятвы:
«Клянусь Всевышним Существом, создавшим степи и горы, и семью блуждающими звездами, и гением хранителем стад наших, и священным храмом Каабы32, и небесною водою колодезя Земзем33…» (275).
Сравним с ранними кораническими сурами: «Клянусь же Господом небес и земли» (Коран 51:23)34, «Клянусь горой, и книгой, начертанной на свитке развернутом» (Коран 52:1–3), «Клянусь звездой, когда она закатывается!» (Коран 53:1), «Клянусь месяцем! И ночью, когда она повертывается, и зарей, когда она показывается!» (Коран 74:35–37), «Клянусь зарею, и десятью ночами» (Коран 89:1–2) и т. д.35
Вся система образов повести Сенковского построена на контрастной дихотомии черного и белого. Как и положено действующим лицам романтической повести, герои безупречны, а антигерои отвратительны во всем; в повести нет полутонов:
«Он был знаменитейший герой того времени; она красотою своею превосходила всех дев пустыни. Родители благословили любовь их, и они жили счастливо» (268), — так представляет автор своего главного героя и его возлюбленную, переходя затем к характеристике враждующих племен:
«Поколение Азд <…> славится храбростью и великодушием своих воинов, красотой и добродетелью жен. Но поколение Саламан известно по одним только постыдным недостаткам…» (269).
Друзья идеальны, а враги двуличны, завистливы и вероломны. Однако именно такая незатейливая дихотомия, олицетворяющая вечную борьбу добра и зла, ярче и рельефнее высвечивает добрые поступки, а сталкивая положительных и отрицательных героев, создает динамику и обеспечивает развитие сюжета повести.
В соответствии с принципами романтического искусства центральный персонаж произведения должен быть человеком исключительным и обязательно должен героически погибнуть в борьбе за справедливость. И герой Сенковского именно такой — это поэт-воин, герой-одиночка, готовый во что бы то ни стало защищать слабых, отстаивать свою честь и бороться со злом:
«…копье его всегда готово было к защите бессильного, а имущество к удовлетворению нужд странника и сироты» (270).
Рисуя этот художественный образ воина, Сенковский взял за основу хорошо известный этический кодекс бедуинов — аль-мурувва36. Данный кодекс включал такие качества, как храбрость и великодушие, доблесть и милосердие, отвага и гостеприимство, выносливость и защита слабых, щедрость и скромность, честность и гордость за свой род, сила и благородство, терпение и выдержка. Герой повести Сенковского имеет некоторое сходство со своим прототипом: «…никто из Бедуинов, сев на нее (т. е. лошадь. — А. С.), не догонял меня бегущего пешком по кремнистой почве Неджда» (275). Увидев кого-либо из рода Саламан, Шанфарий «всякий раз наперед кричал, предостерегая, что нанесет ему удар в глаз, в сердце, в желудок» (276), что также упоминается в арабских источниках. Однако читатель-арабист без труда заметит в образе Шанфария черты другого известного доисламского поэта — Антары ибн Шаддада из племени Абс (ум. ок. 615), которые дополняют образ центрального персонажа. Антара тоже был неустрашимым воином, которого боялись многие, и пока он был жив, племя Абс оставалось непобедимым. Именно Антара был тем известным поэтом, чья касыда причислена к шедеврам доисламской поэзии, тогда как стихи аш-Шанфары не были популярны среди арабов, по крайней мере до конца VIII в. (см.: [Крачковский, 1956: 239]). Именно Антара преданно любил свою двоюродную сестру красавицу Аблу, тогда как о личной жизни аш-Шанфары почти ничего не известно.
Следуя принципам романтизма, Сенковский не мог омрачить благородный облик героя своей повести, а поэтому был вынужден утаить от читателей неблаговидные поступки его прототипа. Известно, что настоящий аш-Шанфара был изгнан из своего племени за какие-то преступления: сам поэт в касыде признается в совершенных им злодействах, которые преследуют его, «делят по жребию» его тело «и спорят, кому владеть удалою головой» (Аравийская старина: 78). Он нападал на стоянки бедуинов, грабил и убивал: «Я вдовами делал жен, и я сиротил детей, / Но сам оставался цел, укрытый ночною мглой», — откровенничает поэт (Аравийская старина: 79). Таким образом, Сенковский создал своего героя, собрав в нем положительные черты двух доисламских поэтов — аш-Шанфары и Антары. И обвинять Сенковского в сокрытии истинных деталей нельзя: ведь он как автор художественного произведения имел право на вымысел; к тому же он творил в рамках литературного течения своего времени, задававшего определенные эстетические нормы и требования. Следовательно, образ главного героя повести в известном смысле является собирательным образом идеального бедуина: храброго воина и в то же время талантливого поэта с ранимой душой, способного на глубокие искренние чувства и готового пожертвовать своей жизнью ради других во имя справедливости и общего счастья.
Частым приемом в доисламской арабской поэзии является обращение поэта к двум своим друзьям или спутникам с просьбой выслушать его поэму и разделить с ним воспоминания о прошлом37. Сенковский использовал и этот прием в своей повести: Шанфария поддерживали два преданных друга — Омар и Селик, «которые пристали к нему во время его странствования и обещали разделять с ним опасности» (273).
Если образ главного героя в повести изображен достаточно ярко, то образ его возлюбленной Дальфы представлен схематично, как это и принято в средневековой арабской поэзии. Древних арабских поэтов и сказителей почти не интересовал внутренний мир героев (особенно женщин) — их интересовали лишь события и их внешние проявления. Точно так же поступает и Сенковский, изображая свою героиню:
«…Дальфа роза иемамская, краса пустынь Хеджаза, столько же превосходившая всех женщин красотою, сколько солнце яснее бледной луны» (272) — такую характеристику дает он девушке, используя арсенал эпитетов и сравнений средневековой арабо-персидской поэзии. И добавляет:
«[она] всегда была покрыта длинным темным никабом38, падавшим с головы до ног. <…> …она была пряма, как пальма; при движении она нежно колебалась подобно ветви гибкого бана, или копью арабского воина, сделанному из длинной тегамской трости» (277).
Это все, что читатель может узнать о возлюбленной главного героя из повести; таким приемом Сенковский как бы вовлекает читателя в свое повествование, оставляя за ним право самому «дорисовать» черты характера героини и ее внутренний мир.
Безусловно, все читатели были очарованы локальным колоритом и экзотикой повести, которые представлены арабскими и персидскими реалиями: это благовонный йеменский мед; две легкие муки — маленькие птички, похожие на воробьев; стаи черных катт — птиц, подобных куропаткам; священный храм Каабы, колодец Земзем, тугой йеменский лук, богатый шлем аджемского воина, нашиды 39 и т. п. Особенно интересно отметить, что даже в художественном произведении молодому автору не удалось скрыть свою профессорскую натуру: краткие, но очень информативные примечания о дивах, мерзебанах и Аджеме (см.: 270, 280) выдают востоковеда. Писатель использовал любую возможность, чтобы просветить русского читателя и объяснить ему диковинные слова. И в этой связи необходимо отметить, что удачное сочетание художественного стиля с научным — особенность многих произведений Сенковского.
Несмотря на то, что в самом начале повести писатель указал на ее арабское происхождение, в ней имеются также персидские фольклорно-литературные элементы: это коварные дивы, перевоплощающиеся в друзей, чтобы сбить человека с толку и вынудить совершить злодеяние, а также мотив убийства близкого человека по ошибке, — заимствованные из «Шахнаме» Абу-ль-Касима Фирдоуси (935–1020) (Сказание о Заххаке, Сказание о Рустаме и Сухрабе). Действительно, арабская и персидская средневековые литературы очень тесно взаимодействовали на протяжении многих веков (включая доисламский период), и каждая из них органично вобрала множество элементов другой, так что, добавив в арабскую повесть персидские мотивы, Сенковский нисколько не обманывал своих читателей.
Поскольку обсуждаемая повесть содержит в заглавии приписку «с арабского», что следует понимать, как перевод с арабского или вольный пересказ с арабского, необходимо рассмотреть ее содержание в контексте истории развития подходов к переводу как литературному феномену. До начала XIX в. «считалось вполне допустимым создавать своеобразный синтез переводного материала с собственным творчеством» [Нелюбин, Хухуни: 235], и хотя такой подход стал оспариваться уже в первой трети XIX в., многие переводчики все еще оставались приверженцами вольной интерпретации оригинала. Переделки и вольные переводы с разных языков по-прежнему были распространены, поэтому попытка Сенковского представить свою интерпретацию истории аш-Шанфары на основе и с использованием оригинального материала вполне укладывалась в представление о переводе той эпохи. Кроме того, примечание «с арабского» указывало на арабскую литературу как источник происхождения данной повести, что соответствовало действительности. Арабская легенда, лежащая в основе повести, наличие в тексте фрагментов перевода и пересказа — все это давало основание Сенковскому и издателю его трудов отнести это произведение к вольным переводам в соответствии с представлениями того времени. К тому же переводчики эпохи романтизма свою главную задачу видели в передаче национального своеобразия оригинала, а в этом Сенковский преуспел. Утверждение И. Ю. Крачковского о невозможности считать «Смерть Шанфария» переводом связано с тем, что исследователь подошел к изучению проблемы с современных ему позиций, не принимая во внимание исторический контекст, ведь подход к переводу середины ХХ в. существенно отличался от понимания этого феномена в первой трети XIX в.
На основании представленного анализа можно заключить, что «Смерть Шанфария» — это романтическая «восточная» повесть, пришедшая на смену философско-назидательной «восточной» повести XVIII — начала XIX в. Разумеется, в произведении Сенковского сохранен просветительский аспект, однако здесь он выполняет совсем иную функцию: автор не поучает читателя, как следует жить, а стремится познакомить его с другой культурой, весьма правдоподобно изображая жизнь арабских племен до ислама. Это профессиональная стилизация, в которую органично встроены фрагменты художественного перевода и пересказа арабских источников, отчетливо просматривающиеся в тексте повести; хорошо заметно также подражание повествовательной манере древних арабских авторов. Успешно воспроизведено в «Смерти Шан-фария» средствами русского языка жанровое и национальное своеобразие арабской классической литературы. Благодаря совокупности таких способов, как перевод, пересказ, подражание и стилизация, Сенковский смог легко и непринужденно познакомить русского читателя с доисламской арабской литературой, весьма трудной для восприятия неподготовленной аудиторией. Анализ содержания повести позволил также обнаружить истоки «романтической фантазии» Сенковского и тот факт, что к каким бы художественным средствам и приемам ни прибегал автор, он всегда представлял русскому читателю подлинный восточный материал.
5. Заключение
О. И. Сенковский — один из немногих европейских востоковедов первой половины XIX в., кто провел два года на Востоке и свои глубокие знания о восточных народах смог передать людям не только как университетский профессор, но и как талантливый переводчик и писатель. В. А. Эберман в свое время установил, что «расцвет переводческой и подражательной литературы, имеющей своим источником поэзию арабов и персов, падает на 20–30-е годы XIX века» [Эберман: 111]. Анализируя проникновение арабо-персидских мотивов в русскую литературу, он выделил два пути знакомства с восточной поэзией — усвоение (посредством переводов оригинальных художественных произведений) и переработку , иными словами, работу «творческую, основанную на личном, иногда личном и книжном знакомстве с чужим, экзотичным» [Эбер-ман: 109]. В этом смысле цикл «Восточных повестей и поэм»
Сенковского ярко демонстрирует реализацию обоих способов, а в повести «Смерть Шанфария» они сочетаются особенно органично. Сенковский использовал разнообразную палитру средств: от художественного перевода — через вольный пересказ — к литературным стилизациям, к импровизациям на сюжеты из арабской литературы. По-видимому, примером для Сенковского в этом смысле был В. А. Жуковский (1783–1852) — «гений перевода», в творчестве которого имеются и переводы, и вольные интерпретации, и подражания, и даже новые тексты по мотивам оригиналов. Сенковский использовал те же способы, только в прозе. Несомненно, в поисках новой формы и стиля романтической повести он следовал и за своим другом и учителем А. А. Бестужевым (Марлинским), чьи сочинения послужили для него образцами жанра.
Анализируя феномен стилизации, Д. С. Лихачев отмечал: «Для русской литературы время появления стилизаций — начало XIX в. Как и всегда в случаях появления нового, это новое увлекает, и временно стилизации входят в литературную моду» [Лихачев: 203]. Естественно, что Сенковский не смог избежать этого нового веяния. Объектами подражания и стилизации обсуждаемой повести послужили произведения средневековой арабской литературы со своим стилем и образной системой, причем в повести «Смерть Шанфария» данный художественный прием выглядит весьма зрелым, потому что Сенковский досконально знал исходный материал. Имитационные приемы, которыми воспользовался востоковед, подражая древним арабским поэтам (фотографическое описание природы Аравийского полуострова, обилие топонимов, формулы, сравнения и образы старой арабской поэзии), в совокупности с переведенными фрагментами, арабо-персидскими мотивами и реалиями позволяют причислить это литературное произведение к профессиональным стилизациям. Создавая свою повесть, Сенковский опирался на жанровую и образную систему доисламской арабской поэзии, которая в то время была уже весьма развита и очень самобытна. Напротив, прозаические жанры в течение длительного времени находились в зачаточном состоянии и начали интенсивно развиваться только в период ислама.
Выбранная Сенковским стилизация с фрагментами перевода и пересказа была вдвойне оправдана тем обстоятельством, что обычные переводы доисламской поэзии арабов были бы непонятны его современникам, о чем свидетельствует пространное примечание самого ученого к переводу поэмы Ле-бида40. В середине ХХ в. это подтвердил другой арабист: «Доисламская поэзия арабов малодоступна и малопривлекательна для европейского читателя, подходящего с обычными эстетическими запросами. Большая трудность языка, обусловленная отчасти лексическим богатством, в котором и теперь исследователи нередко теряются, действует устрашающе даже на ученых. Усилия, которые приходится затрачивать для непосредственного понимания, настолько велики, что, по ироническому замечанию одного исследователя, парализуют всякое эстетическое восприятие» [Крачковский, 1956: 238]. Именно поэтому следует признать, что найденный Сенковским способ представления древнеарабской поэзии русскому читателю первой половины XIX в. через призму романтической «восточной» повести вполне отвечал потребностям своего времени. Увлекательная манера повествования в совокупности с профессионализмом перевода, подражания и стилизации на основе подлинного арабского материала давали массовому русскому читателю вполне адекватное представление об арабах, их традициях и богатой культуре.
Список литературы Повесть О. И. Сенковского «Смерть Шанфария»: перевод, пересказ или стилизация?
- Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 1. С. 259-307.
- Данильченко Г. Д. Романтический ориентализм в русской литературе первой половины XIX века: дис. ... канд. филол. наук. Бишкек: Бишкек. гуманитар. ун-т, 1999. 146 с.
- Дердиров М. Ф. Проблемы воссоздания национального и жанрового своеобразия арабской классической прозы: дис. ... канд. филол. наук. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 199 с.
- Каверин В. А. Барон Брамбеус: история Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М.: Наука, 1966. 238 с.
- Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 300 с.
- Крачковский И. Ю. Источник «Витязя буланого коня» и других восточных повестей Сенковского // Крачковский И. Ю., акад. Избр. соч.: в 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 1. C. 225-251.
- Крачковский И. Ю. Аш-Шанфара. Песнь пустыни // Крачковский И. Ю. Избр. соч.: в 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 2. С. 238-245.
- Кубачева В. Н. «Восточная» повесть в русской литературе XVIII — начала XIX века // XVIII век. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Сб. 5. С. 295-315 [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/ PDF/XVIII/Сборник_5_XVIII.pdf (20.11.2022).
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд., доп. Л.: Худож. лит., 1971. 414 с.
- Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе: история и теория с древнейших времен до наших дней. М.: Флинта, Московский психолого-социальный ин-т, 2006. 416 с.
- Сахаров В. И. Форма времени // Русская романтическая повесть. М.: Сов. Россия, 1980. С. 5-40.
- Эберман В. А. Арабы и персы в русской поэзии // Восток: журнал литературы, науки и искусства. М.; Пб.: Всемирная литература, 1923. Кн. 3. С. 108-125 [Электронный ресурс]. URL: http://www.orientalstudies.ru/ rus/images/pdf/journals/vostok_3_1923_10_ebermann.pdf (20.11.2022).
- Al-Hamdäni Abû Muhammad al-Hasan. Sifat gazïrat al- Arab. [=Al-Hamdanis Geographie der arabischen Halbinsel: nach den Handschriften von Berlin, Constantinopel, London, Paris und Strassburg]. Leiden: E. J. Brill, 1884. 700 p.
- Al-Isfahäni Abû al-Farag. Kitäb al-Agäni. Bayrût: Dar sädir, 2008. Al-Mugallad 21. 284 p.
- Ambroziak D. "Kazdy baron ma swoj^ fantazjç": Jozef Sçkowski, Polak z pochodzenia, Rosjanin z wyboru. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. 168 s. (Ser.: Studia i Monografie; Nr. 391.)
- Arazi A. Al-Shanfarä // The Encyclopaedia of Islam: in 12 vols. 2nd Edition. Leiden: E. J. Brill, 1997. Vol. IX: San — Sze. Рр. 301-303.
- Blachère R. Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XVe siècle de J.-C. Paris: J. Maisonneuve, 1990. Tome 2. Pp. 187-453.
- Chabbi J. 'Zamzam' // The Encyclopaedia of Islam: in 12 vols. 2nd Edition. Leiden: E. J. Brill, 2002. Vol. XI: W — Z. Pр. 440-442.
- Gardet L. Allah' // The Encyclopaedia of Islam: in 12 vols. 2nd Edition. Leiden: E. J. Brill, 1986. Vol. I: A — B. Pр. 406-417.
- Gelder G. J. H., van. 'Al-Shanfarä (d. c. 550)' // Encyclopedia of Arabic Literature: in 2 vols / ed. by J. S. Meisami and P. Starkey. London; New York: Routledge, 1998. Vol. 2: L — Z. Pр. 703-704.
- [Jacob G.] Schanfarà-Studien von Georg Jacob. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1914. 1. Teil: Der Wortschatz der Lâmîja nebst Übersetzung und beigefügtem Text. 104 s. [Электронный ресурс]. URL: http://publikationen.badw.de/de/003837648/pdf/CC%20BY (20.11.2022).
- [Jacob G.] Schanfarà-Studien von Georg Jacob. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1915. 2. Teil: Parallelen und Kommentar zur Lâmîja, Schanfarà-Bibliographie. 60 s. [Электронный ресурс]. URL: http://publikationen.badw.de/de/003837650/pdf/CC%20BY (20.11.2022).
- Monroe J. T. Oral Composition in Pre-Islamic Poetry // Journal of Arabic Literature. 1972. Vol. 3. Pp. 1-53.
- Pedrotti L. Jozef Julian Sçkowski. The Genesis of a Literary Alien. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1965. 226 p.
- Sacy S. A. I., de. Chrestomathie arabe, ou, Extraits de divers écrivains arabes, tant en prose qu'en vers: à l'usage des élèves de l'École spéciale des langues orientales vivantes. Paris: Imprimerie royale, 1806. T. 1, contenant le texte arabe. 587 p. (a)
- Sacy S. A. I., de. Chrestomathie arabe, ou, Extraits de divers écrivains arabes, tant en prose qu'en vers: à l'usage des élèves de l'École spéciale des langues orientales vivantes. Paris: Imprimerie royale, 1806. T. 3, seconde partie de la traduction. 588 p. (b)
- Sacy S. A. I., de. Chrestomathie arabe, ou, Extraits de divers écrivains arabes, tant en prose qu'en vers: à l'usage des élèves de l'École spéciale des langues orientales vivantes. 2 Éd. Paris: Imprimerie royale, 1826. Tome 2. 760 p. [Электронный ресурс]. URL: http://archive.org/details/ chrestomathiear00sacygoog/page/n731/mode/2up (20.11.2022).
- Segel H. B. Slowacki's "Arabic" Poems, 1828-1830 // The Polish Review. 1963. Vol. 8. No. 2 (Spring). Pp. 38-54.
- Sells M. Shanfara's Lamiyya: A New Version // Al-Arabiyya. 1983. Vol. 16. No. 1/2 (Spring & Autumn). Pp. 5-25.
- Serikoff N. Thinking in a different language: the Orientalist Senkovskii and 'Orientalism' // Acta Orientalia Vilnensia. 2009. Vol. 10. No. 1-2. Pp. 111-124. DOI: 10.15388/AOV.2009.3668
- Siwiec P. "Szanfary": raz jeszcze o przekladach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla // Pamiçtnik Literacki. 2014. Rocznik CV. Zeszyt 2. S. 21-45 [Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.pl/50548272-Pawel-siwiec-szanfary-raz-jeszcze-o-przekladach-adama-mickiewicza-i-ludwika-spitznagla. html (20.11.2022).
- Stetkevych S. P. Archetype and Attribution in Early Arabic Poetry: al-Shanfarâ and the Lâmiyyat al-Arab // International Journal of Middle East Studies. 1986. Vol. 18. Issue 3 (Aug.). Pp. 361-390. DOI:10.1017/S0020743800030518
- Wensinck A. J., Jomier J. 'Kaba' // The Encyclopaedia of Islam: in 12 vols. 2nd Edition. Leiden: E. J. Brill, 1997. Vol. IV: IRAN — KHA. Pp. 317-322.