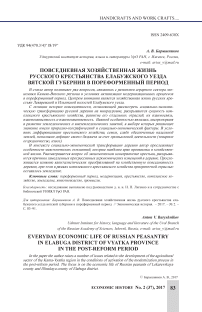Повседневная хозяйственная жизнь русского крестьянства Елабужского уезда Вятской губернии в пореформенный период
Автор: Барышников Антон Владимирович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Ремесла и промыслы в контексте модернизации России
Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье автор поднимает ряд вопросов, связанных с развитием аграрного сектора экономики Камско-Вятского региона в условиях активизации модернизационных процессов в пореформенный период. Центром внимания является хозяйственная жизнь русских крестьян Лекаревской и Ильинской волостей Елабужского уезда. С позиции истории повседневности, позволяющей рассмотреть социально-экономическую трансформацию русской деревни на микроуровне, раскрываются сущность комплексного крестьянского хозяйства, развитие его отдельных отраслей, их взаимосвязь, взаимозависимость и взаимозаменяемость. Важной особенностью являлась диспропорция в развитии земледельческих и внеземледельческих занятий, в выборе которых решающее значение имели природно-географический и социально-экономический факторы. В условиях дифференциации крестьянского хозяйства, семьи, слабо обеспеченные надельной землей, пополняли дефицит своего бюджета за счет промысловой деятельности (товарное огородничество, извоз). В контексте социально-экономической трансформации деревни автор прослеживает особенности межэтнических отношений, которые наиболее ярко проявились в хозяйственной жизни. Рассматривается вопрос об экономическом консерватизме крестьян, раскрываются причины замедленных прогрессивных агрономических изменений в деревне. Прослеживается влияние капиталистических преобразований на хозяйственную повседневность деревни, при этом в рамках комплексного крестьянского хозяйства приоритетной отраслью оставалось земледелие.
Пореформенный период, модернизация, крестьянство, комплексное хозяйство, земледелие, животноводство, промыслы
Короткий адрес: https://sciup.org/14723852
IDR: 14723852 | УДК: 94(470.3/4)”18/19”
Текст научной статьи Повседневная хозяйственная жизнь русского крестьянства Елабужского уезда Вятской губернии в пореформенный период
Пореформенный период отечественной истории был ознаменован активизацией модернизационных процессов, затронувших все слои населения Российской империи. Аграрный сектор, подвергавшийся поступательным изменениям, развивался значительно медленнее промышленного. Крестьянство как основная часть населения представляется нам репрезентативным слоем, на примере которого можно проследить экономическую трансформацию, включавшую в себя сочетание старых и новых форм ведения хозяйства. Обращение к повседневной хозяйственной жизни русского крестьянства позволяет рассмотреть аграрный сектор на микроуровне, проследить связи между отраслями деревенского хозяйства, а также обозначить проявления взаимодействия с обновлявшейся экономической реальностью.
История крестьянской повседневности пореформенного периода в отечественной историографии начала рассматриваться относительно недавно. Обращаясь непосредственно к экономической сфере исследования, в первую очередь следует выделить основополагающие работы по социальноэкономической истории указанного периода за авторством В. И. Ленина, П. Г. Рынд- зюнского, И. Д. Ковальченко, в которых основные проблемы аграрной истории пореформенного периода выведены на теоретический уровень [7; 8; 13]. Для нашей работы важную роль играют также исследования В. Б. Безгина. Анализируя историю губерний Центрального Черноземья, автор выстраивает обобщающую картину сельской жизни [1]. Не менее важными являются работы О. А. Суховой, раскрывающие на материалах Среднего Поволжья особенности крестьянской психологии [15]. Стоит отметить, что оба автора уделяют значительное внимание именно хозяйственной стороне как детерминирующему фактору всей сельской жизни. В региональной историографии Удмуртии учеными (М. М. Мартынова, М. А. Садаков, Н. П. Лигенко, Л. А. Волкова) поднят значительный пласт по социально-экономической истории, в том числе раскрыты многие аспекты проблемы аграрной истории: многоотраслевое комплексное хозяйство, модернизационные процессы, земледельческая культура и т. д. [3; 9; 10; 14]. Однако до сего времени исследователи не обращались к изучению истории русского крестьянства Удмуртии как самостоятельной проблеме. В работах представлена, скорее, общая картина развития крестьянства или же отдельно история крестьян-удмуртов.
Основным источником, наиболее полно раскрывающим разнообразные стороны экономики аграрного сектора, послужили материалы, собранные статистическим отделом Вятского губернского земства. В дополнение к ним мы использовали этнографические очерки, опубликованные на страницах периодического издания «Календарь и Памятная книжка Вятской губернии» [6].
Методы
В данной статье на примере Лекарев-ской и Ильинской волостей Елабужского уезда с позиций истории повседневности поднят вопрос о комплексности крестьянского хозяйства, под которой мы понимаем сочетание трех отраслей – земледелия, животноводства и промыслов. В рамках исследования с помощью историко-сравнительного метода мы также попытаемся проследить не только повседневную хозяйственную жизнь русских крестьян двух волостей, находившихся в разных природноклиматических зонах, в ее обособленном виде, но и проявления взаимодействия и взаимовлияния русского и удмуртского населения. Это поможет выявить социальноэкономические, этнические особенности человеческой обыденности.
Результаты
Лекаревская волость занимала южную часть уезда. Наличие двух крупных водных артерий – Камы и Танайки, а также множества мелких рек, оказало влияние на рельеф, образуя крупные долины. Местность отличалась наличием возвышенностей, по увалам которых располагались крестьянские поля [11, с. 89–93]. Преобладающими почвами были суглинки с редкими вкраплениями песка, глины и подзола [11, с. 89–93]. В целом эти почвы можно назвать умеренно комфортными для земледелия. Важной деталью ландшафта местности являлся Вятский тракт, тянувшийся с юго-востока на северо-запад волости.
Лекаревскую волость населяли русские государственные крестьяне. В 1 631 дворе проживали 9 435 человек [12, с. 46]. Земля находилась в общинной собственности, из 25 032,9 десятины 22 034,0 были удоб- ными для земледелия, причем 60 % всей земли отводилось под пашню [12, с. 46]. В среднем размер земельного надела на один двор составлял 15,3 десятины, что практически равнялось среднему показателю по России, но было меньше среднего показателя по Удмуртии (соответственно 15,00 и 17,37 десятины) [5, с. 279]. В волости преобладали дворы со средним, зажиточным земельным наделом (10–25 десятин) – 1 035 дворов (64 %); 43 двора (2,6 %) были безземельными, тогда как доля многоземельных хозяйств (25–50 десятин) составляла 11,6 % [12, с. 48]. Несмотря на относительно невысокий процент безземельных хозяйств, наличие дворов, имевших свыше 25 десятин земли, указывает на процессы экономического расслоения. Однако доля средних крестьянских хозяйств несколько стабилизировала картину, и в данном случае, на наш взгляд, стоит говорить именно о расслоении в среде крестьян Лекаревской волости. Трехполье было системой полеводства, в озимовом поле сеяли исключительно рожь, а в яровом высевали овес, полбу, пшеницу, ячмень, лен, гречиху, картофель, просо, коноплю и горох [11, с. 89–93].
О невысокой степени расслоения крестьянства говорит и статистика по животноводству волости. Несмотря на то, что преобладающими являлись хозяйства с одной лошадью (38,6 %), хозяйства с двумя лошадьми (33,0 %) и с тремя лошадьми (13,2 %) были представлены достаточно широко [12, с. 51]. Средние показатели богатых крестьянских дворов, владевших 4–6 лошадьми (4,4 %) практически равнялись показателю безлошадных дворов (4,7 %) [12, с. 51]. Учитывая доли безлошадных (11,8 %) и бескоровных (23,5 %) хозяйств, а также преобладание в хозяйствах с 1 и 2 лошадьми дворов, в распоряжении которых находились коровы, можно заключить, что в животноводческом секторе экономическая ситуация была вполне стабильной. Стоит отметить, что своим скотом обрабатывали землю 75 % дворов волости [12, с. 52].
Широко были представлены в волости внеземледельческие занятия. Местный про- мысел охватывал 1 058 дворов [12, с 52]. Крестьяне занимались плотничеством, извозом, лесными промыслами, изготавливали валенки, корзины, шляпы, обрабатывали шерсть. Среди этого разнообразия видов деятельности, особое внимание обращают на себя наемные работы, главным образом поденщина, которой занимались 428 дворов (26 %) [12, с. 156]. Поденщина традиционно считалась занятием экономически нуждавшихся людей, и факт того, что четверть хозяйств волости занималась поденными работами, свидетельствует в пользу тезиса о расслоении крестьянства. Особенностью внеземледельческих занятий крестьян волости являлось преобладание среди местных промыслов огородничества – им занимались в 509 дворах [12, с. 158]. Огородничество, как правило, носившее вспомогательный характер, в Лекаревской волости играло важную роль в экономической жизни. Наибольшее развитие получило выращивание лука, центром которого было с. Танайка. Оно находилось недалеко от Камы и весенний разлив затоплял территорию, образуя пойму. Выгон размером 600 десятин был преимущественно распахан под огороды, так что у каждого двора было по 3–4 огорода [6, с. 165].
Помимо лука все танаевские огородники выращивали огурцы, как на пойме, так и на дворовых участках. Поемные заготавливали на зиму, а приусадебные потребляли свежими [6, с. 184]. Ил, остававшийся на полях после ухода воды, способствовал росту лука и огурцов. Таким образом, значительную роль на развитие огородничества оказал природно-географический фактор.
Продолжая тему промыслов Лекарев-ской волости, нужно указать, что огородные культуры выращивались не только для личного потребления, но и для продажи. Торговля была преобладающим отхожим промыслом, ею занимались 450 дворов. Огурцы продавали преимущественно на местных рынках, не покидая пределов уезда. Начинали продавать около Петрова дня (29 июня), устанавливая очень высокую цену – 25 копеек за десяток, позже, по мере увеличения предложения, цена снижалась, проходя своеобразные контрольные точки: Ильин день (20 июля), когда цена доходила до 50 копеек за сотню, постепенно снижаясь до Третьего спаса (16 августа), когда в Елабуге проходили ярмарка и большой съезд [6, с. 187]. Интересным являлось различие во вкусовых предпочтениях народностей, населявших Елабужский уезд. Так, русские покупали на ярмарках огурцы средней величины, спелые, зеленые, предпочитая употреблять их свежими, тогда как удмурты и марийцы выбирали самые крупные желтые и красные огурцы, мотивируя это тем, что такие огурцы долго не портятся и их удобно засаливать: «К соля крепка больна!» [6, с. 188].
Лук продавали как на местных рынках, основным из которых была Елабуга, так и на вывоз в другие губернии – Казанскую, Уфимскую, Самарскую, Оренбургскую и Астраханскую, где меняли лук на хлеб [6, с. 164]. Первая отправка за пределы губернии проводилась в сентябре, к Воздвиженской ярмарке в г. Бугульме Самарской губернии. Торговали до весенней распутицы, причем ездили по нескольким губерниям, не довольствуясь торговлей в одном месте. Выгода от огородничества как части отхожей торговой промысловой деятельности была лишь в урожайные годы, когда все денежные повинности оплачивались луком, а торговец обеспечивал себя хлебом на весь год [6, с. 183]. В неурожайные годы, когда в степных губерниях не было хлеба, который можно было бы обменять на лук лекарев-ских крестьян, спрос закономерно падал, и даже при условии высокого урожая в Вятской губернии невозможность торговать наносила ощутимый экономический удар по торговцам луком.
С огородничеством как отхожим промыслом был связан еще один вид промысловой деятельности, широко распространенный в волости, – извоз, которым занимались в 148 дворах [12, с. 178]. Распространение извоза обусловливалось несколькими факторами. Во-первых, наличие Вятского тракта – большой сухопутной до- роги, проходящей через всю волость, что облегчало возможность перевозок по всей территории; во-вторых, преобладание доли хозяйств с лошадьми над безлошадными, несмотря на неровную статистическую картину.
Можно заключить, что хозяйство русских государственных крестьян Лека-ревской волости отвечало понятию комплексности, сочетая в себе земледелие, животноводство и промыслы. Особенностью волости являлось повышенное внимание отдельных поселений к промысловой деятельности, однако подобный перекос объяснялся природно-географическим фактором, позволившим широко заниматься огородничеством, а также рыночной реализацией продуктов этого промысла.
Ильинская волость находилась на севере уезда и делилась на две природно-географические зоны. Северо-западная часть волости была не заселена, к чему привели неблагоприятные для земледелия песчаные почвы, в обилии залегавшие на данной территории. Отсутствие людей обусловило сохранение обширных лесных массивов. В юго-восточной части волости состав почв был лучше, поэтому территория была густо заселена. Население Ильинской волости, в отличие от Лекаревской, отличалось полиэтничным составом. Здесь проживали русские, удмуртские и марийские государственные крестьяне, а также русские бывшие оружейные мастера [11, с. 6–20]. Из 23 селений в 12 русские жили вместе с удмуртами, 3 селения были чисто русскими и 7 чисто удмуртскими. Марийцы жили обособленно от остальных народностей [11, с. 6–20].
Русские государственные крестьяне проживали в 85 дворах волости общим числом 600 душ обоего пола [12, с. 46]. Они получали лесные массивы для расчистки, от которой в конечном счете оставались в выгоде, получая не только новинные, расчищенные земли, но и деньги от продажи вырубленного леса [11, с. 6–20]. Расчисткой русские создали 45 % пашни, тем самым увеличив площадь своих пахотных земель по сравнению с площа- дью коренного удмуртского населения [11, с. 6–20]. Земля находилась в общинном владении, всего 1 701,2 десятины, из которых 822,8 составляли пашню. В среднем на двор приходилось 20 десятин. Отсутствие дефицита земли обусловило преобладание дворов со средним, зажиточным земельным наделом (10–25 десятин) – таких дворов было 44 (51,5 %). Относительно высок был процент многоземельных дворов – 32 % (27 дворов) [12, с. 48]. Три двора были безземельными (3,5 %). Единственной используемой системой полеводства было трехполье. Преобладающими посевными культурами являлись рожь, овес, полба, ячмень. Меньше культивировались пшеница и горох. Гречиху, просо, чечевицу и картофель высевали лишь в качестве эксперимента.
Обращает на себя внимание отношение к процессу возделывания земли со стороны русских крестьян по сравнению с удмуртскими. Так, удобрение полей не находило должного внимания у удмуртского населения – навоз вывозили заранее, в начале пашни, небрежно разбрасывали его, после чего оставляли. Русское население, изначально вывозившее навоз так же, к концу XIX в. стало удобрять поля летом, что привело к повышению урожайности [11, с. 6–20]. Лишь убедившись в практической пользе подобного способа, удмурты стали перенимать сельскохозяйственные приемы у русских соседей.
Причиной столь разного отношения к земледелию, на наш взгляд, выступает психологический фактор. В дореволюционных работах, касающихся крестьянства, была довольно широко распространена точка зрения о прогрессивности русского населения, в сравнении с «инородцами», отстающими от титульной нации Российской империи [2; 4]. Сама дефиниция «отсталость» представляется архаичной и не отражающей реального положения вещей. Здесь, вероятно, нужно говорить о чувстве стабильности свойственном удмуртскому крестьянину Ильинской волости. Консервативность, со стороны выглядящая как косность, была обусловлена тем, что удмурты были коренным населением, обладающим к тому же солидным количеством надельной земли (19,1 десятина в среднем на двор) [12, с. 56]. Даже используя устаревшие аграрные технологии, они могли обеспечить себя за счет земледелия. Русское население было переселенцами, что обусловило их нацеленность на преодоление неблагоприятных обстоятельств, преобразование окружающей среды. Закономерно, что навык преобразования, в частности обработки земли, был у русских на ином уровне, нежели у удмуртов.
Развитым у русских государственных крестьян волости было животноводство. Из 85 дворов лишь 6 были полностью безлошадными и 9 полностью бескоровными [12, с. 51]. Преобладающими являлись хозяйства с 2 лошадьми – 35 дворов (41 %), 34 из которых были с коровой. По одной лошади было в 21 дворе (18 с коровой); по 3 лошади было в 15 крестьянских хозяйствах. В волости также были дворы с 4 лошадьми (7 хозяйств) и даже с 6 (1 хозяйство) [12, с. 51]. Учитывая наличие дворов с полным отсутствием скота, стоит говорить об экономическом расслоении крестьянства, однако степень его была невелика, так как процентное преобладание крепкой середины указывает на экономическую стабильность крестьян. На это же указывает способ обработки земли – своим скотом обрабатывали 73 двора (86 %), и 67 дворов (79 %) использовали собственную рабочую силу [12, с. 52].
Промысловая деятельность крестьян дает некоторое представление о разнице в отношении к земледельческому труду представителей разных народностей волости. Так, местным промыслом было охвачено 47 из 85 дворов русских государственных крестьян (55 %) [12, с. 52] и 387 из 898 дворов удмуртских государственных крестьян (43 %) [12, с 60]. Обращение к внеземле-дельческим занятиям часто было продиктовано невозможностью содержать семью за счет земледелия, о чем свидетельствуют данные статистики по соседним уездам. Однако, учитывая, что средний показатель размера земельного надела был относитель- но выше у русских, чем у удмуртских крестьян, для Ильинской волости обозначенная закономерность недействительна. Русские крестьяне, имея больше земли, используя более совершенные аграрные технологии, активно занимались и промыслами. Стоит отметить, что несмотря на процентное соотношение, удмуртские крестьяне в силу количественного преобладания были заняты в большем числе промыслов [12, с. 148–152]. Как и в Лекаревской волости, крестьяне Ильинской волости занимались огородничеством, причем участки имели и русские, и удмурты, и марийцы. Однако, в отличие от лекаревских крестьян, здесь население выращивало овощи исключительно для собственного потребления. Что касается отхожего промысла, обращает на себя внимание преобладавший в волости извоз (74 двора) [12, с. 179]. Это, вероятно, было связано с развитым скотоводством и наличием хозяйств с двумя и более лошадьми.
Таким образом, мы можем заключить, что хозяйство русских государственных крестьян Ильинской волости, отвечало понятию комплексности – в нем гармонично сочетались, дополняя друг друга, земледелие, животноводство и промыслы.
Русское население в лице бывших оружейных мастеров, было представлено 77 душами, проживавшими в 15 дворах [12, с. 54]. Земля находилась в общинном владении, всего 553 десятины, при этом вся земля была удобной. Здесь средний показатель на двор был чрезвычайно высок, даже по сравнению со средним размером надела русских государственных крестьян – 36,9 десятины [12, с. 56]. Примечательны также отсутствие безземельных дворов и преобладание дворов многоземельных – в 12 дворах земельный надел варьировался от 25 до 50 десятин, а 3 двора вели хозяйство на наделах размером 50–100 десятин [12, с. 56]. Крестьянское многоземелье в данном случае обусловило своеобразность арендных отношений. 9 дворов (60 %) сдавали 132 десятины пахотной земли под рожь и 90 десятин под яровые культуры [12, с. 57].
При этом ни один двор не арендовал землю вообще.
Животноводство у бывших оружейников находилось в значительно худшем состоянии по сравнению с государственными крестьянами. Количество безлошадных и бескоровных дворов было практически идентичным – соответственно 7 и 9 хозяйств, что, учитывая общее количество дворов, рисует картину стагнации этой отрасли [12, с. 59]. Преобладающими были хозяйства с одной лошадью – 7 дворов, 1 двор владел 2 лошадьми [12, с. 59]. Стоит также отметить, что недостаток рабочего скота вынуждал крестьян обращаться к найму. Так, 4 двора обрабатывали землю наемным скотом [12, с. 60]. Касаясь внезем-ледельческой занятости бывших оружейников, обращает на себя внимание низкий процент людей, включенных в местную промысловую деятельность – лишь 2 человека (2,6 %) в одном дворе [12, с. 60].
Справедливым, на наш взгляд, будет предположение, что крупный размер земельного надела определил относительную неразвитость других сфер – животноводства и промыслов. Это, в свою очередь, ставит вопрос о целесообразности характеристики хозяйства бывших оружейников, как комплексного. Формальное наличие занятости во всех сферах не могло нивелировать преобладание земледельческого труда. Однако если учесть, что земледелие традиционно было основным занятием, тогда как остальные сферы носили вспомогательный характер (в большей или меньшей степени, в зависимости от условий), то хозяйства бывших оружейных мастеров отвечали понятию комплексности.
Обсуждение
Таким образом на примере двух рассмотренных волостей мы можем заключить, что хозяйство русских крестьян Елабужского уезда отвечало понятию комплексности. На различия в развитии отдельных отраслей, а также относительной доли каждой их них как в отдельно взятом хозяйстве, так и в волостях в целом, оказал влияние ряд факторов. Природно-географический фактор обусловил относительно большую долю промысловой деятельности в Лекаревской волости по сравнению с Ильинской, позволив развить огородничество и поднять его значительно выше уровня вспомогательной деятельности.
Заключение
Развитие капиталистических отношений в стране создало условия для торговой реализации продуктов огородничества, что в свою очередь повлияло на развитие извоза. Ему способствовала стабильная ситуация в животноводческом секторе, с одной стороны, и наличие Вятского тракта, позволявшего наладить доставку товаров за пределы губернии – с другой. При этом в обеих волостях основным занятием крестьян оставалось земледелие, однако в Ильинской волости в силу того, что размер земельного надела русских крестьян превосходил средний надел по России и Удмуртии, животноводство и промыслы являлись вспомогательными отраслями, что особенно отчетливо проявлялось в хозяйстве бывших оружейных мастеров. Таким образом, выстраивается зависимость развития отдельных отраслей хозяйства от размера земельного надела, причиной чему, не в последнюю очередь, служила консервативность крестьян, их тяга к земле. Обращение именно к повседневной истории позволяет выявить тонкости во взаимопроникновении отраслей крестьянского двора, их зависимость друг от друга, закономерности развития комплексного хозяйства.
Список литературы Повседневная хозяйственная жизнь русского крестьянства Елабужского уезда Вятской губернии в пореформенный период
- Безгин В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX -начала XX века). -М.; Тамбов, 2004.
- Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. Этнографические очерки/под ред. В. М. Ванюшева. -Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. -Кн. 1.
- Волкова Л. А. Земледельческая культура удмуртов (вторая половина XIX -начало XX века). -Ижевск, 2003.
- Голубев П. А. Вятское земство среди других земств России. -Вятка, 1901.
- История Удмуртии: Конец XV -начало XX века/под ред. К. И. Куликова; введение М. В. Гришкиной, Н. П. Лигенко. -Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2004.
- Календарь и Памятная книжка Вятской губернии. На 1894 г. -Вятка, 1893.
- Ковальченко И. Д. Аграрный строй России второй половины XIX -начала XX в. -М., 2004.
- Ленин В. И. Развитие капитализма в России//Ленин В. И. Полное собрание сочинений. -М., 1971. -Т. 3.
- Лигенко Н. П. Крестьянская промышленность Удмуртии в период капитализма (60 -90-е гг. XIX в.). -Ижевск, 1991.
- Мартынова М. М. Аграрные отношения в Удмуртии во второй половине XIX века//Аграрные отношения в Удмуртии во второй половине XIX -начале XX вв. -Ижевск, 1981.
- Материалы по статистике Вятской губернии. Елабужский уезд. Т. VI. Ч. I. Материалы для оценки земельных угодий. -Вятка, 1892.
- Материалы по статистике Вятской губернии. Елабужский уезд. Т. VI. Ч. II. Подворная опись. -Вятка, 1892.
- Рындзюнский П. Г. Утверждение капитализма в России в 1850-1880 гг. -М., 1978.
- Садаков М. А. Аграрные отношения на территории Удмуртии в период империализма (конец XIX в. -до октября 1917 г.)//Вопросы истории Удмуртии. -Ижевск, 1974. -Вып. 2.
- Сухова О. А. Десять мифов крестьянского сознания. -М., 2008.