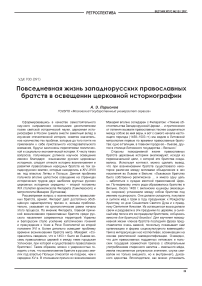Повседневная жизнь западнорусских православных братств в освещении церковной историографии
Автор: Ларионов А.Э.
Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts
Рубрика: Ретроспектива
Статья в выпуске: 2 т.1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140208887
IDR: 140208887 | УДК: 930
Текст статьи Повседневная жизнь западнорусских православных братств в освещении церковной историографии
ГОУВПО «Московский Государственный университет сервиса»
Сформировавшись в качестве самостоятельного научного направления несколькими десятилетиями позже светской исторической науки, церковная историография в России сумела внести заметный вклад в изучение отечественной истории, осветив значительное количество тех проблем, которые до того почти не привлекали к себе пристального исследовательского внимания, будучи заслонены перипетиями политической и социально-экономической истории. К числу таких вопросов, получивших должное научное освещение именно благодаря изысканиям русских церковных историков, следует отнести историю возникновения и развития православных народных братств на тех западнорусских землях, которые находились в XIV–XVIII вв. под властью Литвы и Польши. Данная проблема получила вполне целостное освещение на страницах исторических трудов двух наиболее крупных русских церковных историков середины – второй половины XIX столетия архиепископа Филарета (Гумилевского) и митрополита Макария (Булгакова).
Рассматривая вопрос о возникновении православных братств, архиеп. Филарет даёт достаточно обобщённую характеристику причин и, весьма приблизительно, указывает на хронологические рамки начала этого процесса. По мнению Филарета, главной причиной возникновения православных братств среди русского населения современных территорий Украины и Белоруссии стало усиление католических гонений и принуждения к Унии в Речи Посполитой во второй половине XVI в. Более детально освещает проблему времени возникновения братств митр. Макарий: «Сохранилось сведение, что в 1453 г. было во Львове восемь православных церквей и между ними городская Успенская, при которой и существовало православное братство» 1 . Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что возникновение братств в русских землях под властью Польши относится не позднее, чем к середине XV в. В отношении причин их возникновения
Макарий вполне солидарен с Филаретом: «Тяжкие обстоятельства Западнорусской Церкви … и притеснения от латинян вызвали православных теснее соединиться между собою во имя веры, и вот с самого начала настоящего периода (1458–1503 гг.) мы видим в Литовской митрополии первые по времени православные братства: одно в Галиции, в главном городе её – Львове, другое в столице Литовского государства – Вильне». 2
Стороны повседневной жизни православных братств церковные историки анализируют, исходя из первоначальной цели, с которой эти братства создавались. Используя контекст, можно сделать вывод, что при возникновении братств существовало некоторое различие между мотивами объединения в них населения во Львове и Вильне: «Львовское братство было собственно религиозное … и имело одну цель – заботиться о нуждах местной православной Церкви. По-видимому, иного рода образовалось братство в Вильне. Около 1458 г. виленские кушнеры (меховщики, скорняки) установили между собою братство под именем кушнерского. Они делали складчину, покупали и сытили мёд к трём в году праздникам: к Рождеству Христову, ко дню Сошествия Святого Духа и к празднику Святителя Николая. Из оставшегося воска делали свечи и раздавали в эти праздники по церквям, а сычёный мёд пили в эти же праздники братством, собираясь вместе для братской беседы»3. Для изучения повседневной жизни членов братств последняя фраза представляется очень важной, поскольку показывает нам организацию и формы социокультурного взаимодействия в интересующих нас коллективах, возникавших на основе религиозной самоидентификации. Очевидно, что для православных подданных литовских и польских государей совместная трапеза с обязательным употреблением старинного напитка – хмельного мёда, имела несомненное ритуальное значение, служа символом не только внешнего, но и внутреннего, духовного единства. Впоследствии, как можно установить из текстов Филарета и Макария, обычай совместных праздничных трапез распространился практически во всех западнорусских православных братствах. Следовательно, на основе приводимых авторами фактов можно заключить также и о том, что между отдельными братствами, даже находившимися на значительном удалении друг от друга, существовали более или менее устойчивые связи. Кроме того, митр. Макарий, говоря об организации и братских трапез, фактически подводит нас к выводу о том, что вся вообще жизнь в братствах была в значительной степени ритуализирована и сакрализирована. Этот момент историки вполне убедительно объясняют первоначальной целью создания братств. Причём, по мнению Филарета, с течением времени сакральная, верозащитная сторона деятельности братств выступала всё отчётливее, тогда как другие грани их бытия отодвигались на задний план: «Братства … одушевились новою ревностью. В виду общих бед число их и число членов увеличилось. Прежде они были преимущественно человеколюбивыми обществами. Теперь гонение на Православие обратило ревность их на защиту веры, в помощь пастырям Церкви»4. Из этого Филаретом делается совершенно логичный вывод, что деятельность братств не могла ограничиваться одними только братскими трапезами. Всё чаще члены братств на собранные вскладчину средства стали организовывать школы и типографии для противодействия усиливающейся иезуитской и униатской пропаганде. Соответственно, важной стороной повседневной жизни братств становятся именно подобного рода совместные расходы на поддержание должного уровня образованности в собственной среде и содействие популяризации православного вероучения через книгоиздательскую деятельность. Акцентируя внимание на этих моментах, архиеп. Филарет, по существу, показывает нам, что, объединяясь в братства, православное население Литвы и Польши добровольно принимало на себя достаточно большие расходы, казалось бы, в ущерб своей прямой выгоде, будучи вынуждено, в соответствии с уставом каждого конкретного братства, отчислять определённую часть своих доходов на братские нужды.
Вопрос об уставах, которыми регулировалась повседневная жизнь православных братств в XV – XVII вв., достаточно подробно разбирает уже митр. Макарий. В качестве примера он рассматривает устав Виленского братства. Из авторского анализа этого интереснейшего для изучения повседневной жизни братств документа вытекает, что, во-первых, в братствах царила вполне демократическая атмосфера: сословные и материальные различия отступали на задний план благодаря поддержанию духа христианского единства и конфессиональной солидарности перед лицом необходимости противостоять католической экспансии.
Вместе с тем в братствах существовала собственная иерархия, основанная на выборном начале: «По уставу, братья ежегодно выбирали себе старост и в помощь им ключников; старосты принимали в своё распоряжение братские деньги и другое имущество и в конце года давали братству отчёт. При братских собраниях и беседах … старосты должны были наблюдать, чтобы как братья, так и гости вели себя чинно, не говорили ничего неприличного, не пили мёда не в меру и не производили никаких беспорядков… Если шляхтич или иной человек, не вписанный в братство, приходил на братскую беседу гостем, он не перебирал местами, а садился, где придётся и где указывали старосты»5. Таким образом, можно заключить о достаточно открытом характере братств, поскольку туда могли допускаться и не принадлежащие к ним лица по приглашению постоянных братьев. Кроме того, можно сделать вывод об определённой степени регламентации повседневной жизни в братствах, проявлявшейся не только в правилах поведения за трапезой, но также в запрете обращаться к посторонним судам для решения конфликтов, произошедших в братском доме; немаловажно также и то обстоятельство, что братство брало на себя организацию похорон своих умерших членов. Все факты, приводимые церковными историками относительно православных братств, позволяют достаточно уверенно говорить о том, что их повседневная жизнь уподоблялась, с одной стороны, жизни в семье, а с другой – являлась попыткой реконструкции жизни апостольских общин в первый век существования христианства. Подобная подача исторического материала, без сомнения, проливает свет на повседневную жизнь западнорусских православных братств и может послужить ценным источником информации при организации современных приходских общин.
Список литературы Повседневная жизнь западнорусских православных братств в освещении церковной историографии
- Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. -М., 1996. -Кн. 5. -С. 36.
- Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. -М., 1996. -Кн. 5. -С. 36.
- Архиепископ Филарет (Гумилевский). История Русской Церкви. -М, 2001. -С. 545.