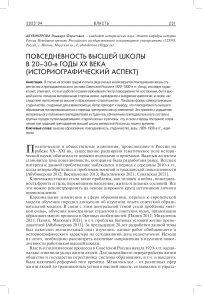Повседневность высшей школы в 20-30-е годы XX века (историографический аспект)
Автор: Абубикерова Э.Ф.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе трудов и опыта ряда ученых анализируется повседневная жизнь студенчества и преподавательского состава Советской России в 1920-1930-е гг. Автор, исследуя труды коллег, отмечает, что в их работах отражен важнейший спектр повседневности: настроения, быт в высшей школе, показана материальная сторона жизни, зарождение и внедрение идеологии, а также, как следствие, вытеснение из высшего образования «старой школы». Показаны формы самоорганизации студенчества, созданные для взаимопомощи. Автор приходит к выводу, что повседневность высшего образования послереволюционного периода претерпела массу изменений. Это привело к ухудшению материального положения преподавателей и студентов, обновлению преподавательского состава в крупных городах путем выдавливания «старой школы» в регионы, что, в свою очередь послужило сохранению там традиций преподавания высшей школы имперской России до нашего времени.
Высшее образование, повседневность, студенчество, вузы, 1920-1930-е гг, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/170200522
IDR: 170200522 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9747
Текст научной статьи Повседневность высшей школы в 20-30-е годы XX века (историографический аспект)
П олитические и общественные изменения, происшедшие в России на рубеже XX–XXI вв., существенно расширили тематическое поле исторической науки, обогатили ее новыми подходами и приемами. Важным аспектом становится тема повседневности, которая не была разработана ранее. Всплеск интереса к данной проблематике наблюдался в период с середины 2010-х гг., когда авторы обратились к проблемам военной и гражданской повседневности [Абубикерова 2012; Васильченко 2013; Васильченко 2021; Сенявская 2021].
Ключевыми темами стали такие проблемы, как человек и война, повседневность фронта и тыла, перемещение населения, жизнь отдельных сословий. Все это можно реконструировать на основе широкого круга источников личного происхождения.
Кардинальные изменения в сфере образования, переход к европейской модели обучения породил дискуссии об изучении опыта советской образовательной модели. В связи с этим центральной темой стали проблемы «мягкой силы», обучения иностранных студентов в советских вузах, организация образовательного процесса и бытовых особенностей [Панин 2012; Микуленок 2021; Панин, Матюхин 2021], в т.ч. проблема бытовых условий жизни преподавателей [Абубикерова 2013]. За предыдущие 20 лет разработки данной темы был накоплен значительный опыт изучения, однако работ обобщающего и историографического характера на сегодняшний день недостаточно. Исходя из этого, необходимо рассмотреть ключевые направления в изучении повседневности работников высшей школы.
Власть и политические процессы в Советской России начала 1920-х гг. кардинально изменили уклад жизни людей. Для дальнейшего переустройства жизни общества и государства перестройка системы образования, в т.ч. и высшего, была ключевой реформой того времени. Менялось все – от различных сфер жизни людей до традиционных устоев в высшей школе, создавались и упразд- нялись как средние, так и высшие учебные заведения, вытеснялась неугодная профессура, взамен которой приходило новое, политически интегрированное поколение людей.
Одной из сторон в изучении высшей школы в 1920–1930-х гг. является исследование бытовой стороны преподавательской и студенческой жизни, их взаимодействия. Материалами изучения выступают мемуары, автобиографии, письма, манифесты студентов и преподавателей и, конечно, отраженные в архивах того времени докладные, служебные записи вузовских работников, журналы и газеты.
В начале XXI в. в отечественной исторической науке тема повседневности, исследуемая сквозь призму эпистолярного корпуса источников, становится ключевой. Большинство исследователей рассматривают письма как отдельный источник информации [Лившин 1999; Козлова, Сандомирская 1996; Козлова 2005]. Авторы показывают крайнюю неоднородность состава обучающихся, вследствие чего, на наш взгляд, проявлялись различные, порой диаметрально противоположные взгляды людей на одно и то же событие, кардинально меняющие повседневную картину мира. Как отмечают И.Б. Орлов и А.Я. Лившин, особую актуальность в то время приобретают «Письма во власть». Призывы к власти показывают сильнейший постреволюционный дух, подъем в обществе, стремление к обучению и овладению специальностями [Лившин 1999: 95]. В письмах отражены пожелания о командировках на рабфак, о переводах в другие учебные заведения, просьбы о решении материальных проблем, об отмене решений об отчислении из вузов и исключений из комсомольских организаций. Н.Н. Козлова и И.И. Сандомирская показывают, что по письму удается восстановить портрет заявителя, его социальный статус, в выражениях, использованных в письме, часто прослеживаются наивность и неграмотность [Козлова, Сандомирская 1996: 120-122]. В изложении проблем и чаяний обычных людей мы видим большой объем информации о том времени [Козлова 2005: 40].
Обращения студентов во власть в 1920–1930-х гг. путем направления писем дают возможность проанализировать повседневные проблемы людей, возникшие в период становления и укрепления советской власти. Ученые исследуют процесс поиска студентами места в новой жизни за счет получения образования, избегания «академических чисток». При этом им часто приходилось разрывать семейные связи, искажать биографии, преодолевать нищету в связи с социальной трансформацией, выстраивать карьеру в профкомах и организациях, укрепляющих идеологический строй того времени.
Студенческая печать как источник позволяет нам реконструировать бытовые практики разных групп студенческой молодежи. К примеру, исследование Ю.А. Наумовой показывает студенческую печать как отдельную специфическую систему периодики, основанную на развитии и жизни по своим законам [Наумова 2019: 6]. Так, в период с 1923 г. в вузах открываются журналы, выходящие ежемесячно: в Саратове – это «Студенческая мысль», в Харькове – «Студент Революции», в Москве – «Рабфаковец», в Ленинграде – «Красный студент», в Перми – «Студент – пролетарий» и, конечно, знаменитый во все времена журнал ЦК ВЛКСМ «Красная молодежь». Там, где специализированных студенческих изданий не было, публикации выходили в обычной периодической печати, занимая, как правило, одну полосу. В вузах создавались «Уголки студенческой жизни», в которых были представлены стенды с плакатами и заметками [Наумова 2019: 31-36]. В материалах того времени были описаны бытовые тяготы студентов, культурно-просветительская и академическая жизнь. Д.А. Андреев отмечает, что в послереволюционный период, в т.ч. и в годы нэпа, студенческая печать во многом зависела от власти, которая, в свою очередь, насаждала новые бытовые порядки с помощью средств пропаганды и установления идеологии. Трудное материальное положение и отчисления студентов часто становились стимулом для смирения, чтобы сохранить возможность обучения как верного пути к лучшей жизни [Андреев 2007: 160-161]. Как утверждает Ш.Х. Чанбарисов, лишь с 1932 г. получение материальной помощи стало зависеть от реальной успеваемости студентов, их подготовки и превратилось по-настоящему в средство стимулирования успеваемости учащегося [Чанбарисов 1988: 132]. Из периодики того времени нам известно, что по всей стране проводились акции в поддержку материального обеспечения студентов путем перечисления средств из хозяйственных органов, от заводов, профсоюзов. Особенно отличались высокими сборами профсоюзы строителей и железнодорожников, горняков и металлистов [Постников 1996: 120-121].
Отдельным источником для изучения повседневной жизни студенчества того времени выступают мемуары и воспоминания. Так, воспоминания студентов Ленинградского университета, учащихся на факультете общественных наук, которые по крупицам собрал и издал в 1971 г. заслуженный деятель науки профессор В.В. Мавродин [На штурм науки… 1971], позволяют нам понять непростую, порой тягостную студенческую жизнь периода перемен в стране. Студенты записывали бытовые жизненные ситуации, связанные с тяготами учебы, т.к. основной проблемой того времени была нищета. Учащаяся И.М. Левина пишет, что студентки одевались, кто во что горазд: это были платья, перешитые из различных подкладок верхних одежд, простыней, штор и занавесок [На штурм науки… 1971: 74]. Из воспоминаний студентки Петроградского университета Александры Холм, проходящей обучение в 1920-х гг., обеденное меню в вузе состояло из супа и второго: гарнира с двумя котлетами стоимостью 42 копейки она не могла себе позволить из-за низкой стипендии и брала лишь суп без мяса за 9 коп. [На штурм науки… 1971: 216]. Однако руководство страны совместно с вузами выдавали помощь студентам в виде талонов: к примеру, в Петрограде была открыта «аровская столовая», куда иногда ходили есть студенты, вспоминает Р.И. Маркова [На штурм науки… 1971: 80-81].
Отдельно быту студентов посвящена работа Д.Ю. Гнатовской и М.Р. Зезина, которые описывают совместное проживание студентов в общежитиях в 1920–1930-е гг. Студенты собирались в группы, как правило, от 10 до 60 чел., и организовывали коммуны для распределения коллективного труда в общежитиях: кто-то готовил, кто-то закупал продукты, кто-то шил или убирался [Гнатовская, Зезина 1998: 42-45].
Таким образом, повседневная жизнь студенчества того времени, описанная в письмах и воспоминаниях, повествует лишь о скромном материальном положении студентов, их быте. Авторы описывают нестабильную жизнь, а процесс получения знаний в вузах, к сожалению, остается за «скобками реалий того времени» – годов нэпа.
В постреволюционный период запрос государства был на обновление, ликвидацию корпоративности преподавательского состава имперской России, впитавшей устои дореволюционного высшего образования, поскольку даже к концу 1920-х гг. численный состав преподавателей «старой школы» составлял 60% общего числа преподавателей [Меметов 2008: 12]. На основании этих данных можно сделать вывод, что у власти в период Гражданской войны и позже не было возможности плотно заниматься строительством новой системы образования.
Важным аспектом в изучении повседневности высшей школы является проблематика становления отечественной послереволюционной науки. Так, Д.И. Васильев, А.Я. Синецкий, А.И. Лутченко в своих работах описывают начало и становление научно-педагогической интеллигенции высшей школы в 1920–1930-е гг., позже названной термином «красная профессура» [Васильев 1967; Синецкий 1947; Лутченко 1969]. Старые практики преподавания в данный период начали активно корректироваться в крупных городах, часть «старой интеллигенции» была вынуждена уезжать в провинцию, а на их место приходили новые люди с «правильными» идеологическими установками. Однако, на наш взгляд, необходимо выделить и поставить в заслугу именно «старой школе» то, что она заложила основу советского преподавания в вузах, сохранила фундаментальную, академическую, классическую культуру получения высшего образования с ее повседневной, пусть и претерпевшей изменения моделью жизни вузов.
Проанализировав ряд научных работ, мы можем констатировать, что на сегодняшний день тема повседневности в высшей школе с точки зрения процесса обучения недостаточно разработана, в отличие от более изученной бытовой стороны жизни студентов и преподавателей. Это обусловлено прежде всего тем, что научные сотрудники и молодые люди, проходящие обучение в высших учебных заведениях, столкнулись с тяготами Первой мировой, затем Гражданской войны, укреплением и становлением в 1920–1930-х гг. власти большевиков. Все это кардинально изменило социальный статус и жизнь рядового гражданина, и образование в частности, погрузив в напряженность «вузовские стены», породив классовую рознь; тяжелые бытовые и материальные условия жизни преподавателей и студентов не могли не отпечататься в памяти людей. Воспоминания об этом отразились в жизненных мемуарах, автобиографиях, письмах, манифестах студентов и преподавателей и в архивах того времени.
Список литературы Повседневность высшей школы в 20-30-е годы XX века (историографический аспект)
- Абубикерова Э.Ф. 2012. Профессиональная повседневность научно-педагогических работников Саратова в 1920-е годы. - Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. История. Международные отношения. Т. 12. № 2. С. 119-122.
- Абубикерова Э.Ф. 2013. Проблемы оплаты труда научно-педагогической интеллигенции вузов Саратова в 1920-х гг. - Власть. № 4. С. 171-173.
- Андреев Д.А. 2007. Советский студент первой половины 1920-х: особенности самопрезентации. - Социологический журнал. № 2. С. 156-166.
- Васильев Д.И. 1967. Так создавались научно-педагогические кадры. -Вестник высшей школы. № 11. С. 69-75.
- Васильченко М.А. 2013. Повседневность солдат Чехословацкого корпуса в марте-мае 1918 г. как фактор антибольшевистского мятежа. - Клио. № 1(73). С. 93-95.
- Васильченко М.А. 2021. Чехословацкий корпус в борьбе за Поволжье (май — ноябрь 1918года). Саратов: Техно-Декор. 172 с.
- Гнатовская Д.Ю., Зезина М.Р. 1998. Бытовые коммуны рабочей и студенческой молодежи во второй половине 20-х - начале 30-х годов. - Вестник Московского университета. Сер. 8. История. № 1. С. 42-58.
- Козлова Н.Н. 2005. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа. 544 с.
- Козлова Н.Н., Сандомирская И.И. 1996. Я так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис. 256 с.
- Лившин А.Я. 1999. Власть и народ: «сигналы с мест» как источник по истории России 1917-1927 годов. — Общественные науки и современность. № 2. С. 94-102.
- Лутченко А.И. 1969. Высшая школа и формирование советской интеллигенции. — Вестник высшей школы. № 1. С. 81-86.
- Меметов В.С. 2008. О некоторых методологических принципах в изучении понятия «интеллигенция» в отечественной историографии. - Ивановский государственный университет: Интеллигенция и мир. № 2. С. 7-26.
- Микуленок Ю.А. 2021. Материальное положение студенчества в раннесоветский период. - Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 26. № 190. С. 184-190.
- Наумова Ю.А. 2019. Студенческая пресса России. Ростов н/Д: Фонд науки и образования. 118 с.
- На штурм науки: Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета (под ред. В.В. Мавродина) 1971. Ленинград: Изд-во ЛГУ. 264 с.
- Панин Е.В. 2012. Материально-бытовые условия жизни студенчества интернациональных и национальных коммунистических университетов Советской России (1920-1930-е гг.). - Теория и практика общественного развития. № 3. С. 165-168.
- Панин Е.В., Матюхин А.В. 2021. Образование - фактор «мягкой силы». Проблемы обучения иностранцев в СССР/России. - Обозреватель. № 2(373). С. 107-115.
- Постников Е.С. 1996. Российское студенчество в условиях новой экономической политики (1921-1927). Тверь: Изд-во ТГУ. 188 с.
- Сенявская Е.С. 2021. Фронтовая повседневность в войнах России ХХ века как объект изучения: историографический итог трех десятилетий (1991-2021). -Исторические записки. Т. 20 (138). С. 243-257.
- Синецкий А.Я. 1947. Формирование профессорско-преподавательских кадров высшей школы. - Вестник высшей школы. № 11. С. 24-35.
- Чанбарисов Ш.Х. 1988. Формирование советской университетской системы. М.: Высшая школа. 256 с.