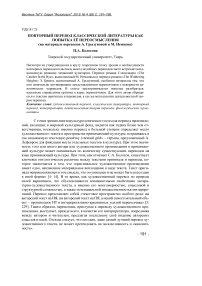Повторный перевод классической литературы как попытка её переосмысления (на материале переводов А. Грызуновой и М. Немцова)
Автор: Колосова Полина Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на утвердившуюся в кругу теоретиков точку зрения о необходимости повторных переводов классики, выход подобных переводов часто встречает неоднозначную реакцию читающей аудитории. Перевод романа Сэлинджера «The Catcher In the Rye», выполненный М. Немцовым и перевод романа «The Wuthering Heights» Э. Бронте, выполненный А. Грызуновой, особенно интересны тем, что они изначально мотивированы представлениями переводчиков о неверности канонических переводов. В статье предпринимается попытка разобраться, насколько справедлива критика в адрес переводчиков. Для этого автор обращается к текстам оригинала и переводов, а так же методологии деятельностной теории перевода.
Художественный перевод, классическая литература, повторный перевод, интерпретация, деятельностная теория перевода, филологическая герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/146281526
IDR: 146281526 | УДК: 81’25
Текст научной статьи Повторный перевод классической литературы как попытка её переосмысления (на материале переводов А. Грызуновой и М. Немцова)
С точки зрения лингвокультурологического подхода перевод произведений, входящих в мировой культурный фонд, видится как задача более чем ответственная, поскольку именно перевод в большой степени определяет место художественного текста в пространстве принимающей культуры, встраиваясь в так называемую текстовую решётку («textual grid» - термин, предложенный А. Лефевром для фиксации места отдельных текстов в культуре). При этом значимость того или иного автора или художественного произведения в принимающей культуре может оцениваться по количеству существующих переводов на язык принимающей культуры. При этом, как отмечает С.А. Колосов, существует ключевое онтологическое различие между текстами оригинала и перевода, которое заключается в том, что «оригинальное художественное произведение имеет одно, неизменное материальное воплощение в виде текста. Текст оригинала неприкосновенен в том смысле, что он уникален и не может быть воссоздан в иной форме» [4: 14]. В то время, как художественный перевод по природе своей вариативен, что обусловливается имманентными свойствами литературно-художественного текста, а именно его многомерностью, смысловой и структурной сложностью, а также потенциальной множественностью интерпретаций. Перевод представляет собой «текстовое пространство особого рода: ни авторский текст на ИЯ, ни авторский текст на ПЯ, а некий самостоятельный объект - производное ИТ и интерпретативно-креативных усилий переводчика» [3: 229]. Таким образом, переводчик, приступая к переводу художественного произведения, выступает, прежде всего, в качестве его интерпретатора, посредника между автором и читателем, предлагая последнему своё видение авторских смыслов и идей. Отсюда следует, что ни один, даже самый лучший перевод художественного текста, не может претендовать на эксклюзивность и «каноничность».
Устаревание переводов и необходимость повторных переводов художественных произведений, в целом, признается как данность большинством отечественных и зарубежных переводчиков и переводоведов. Одни обосновывают такую потребность, ссылаясь на изменчивость и недолговечность языка перевода, которые со временем создают определенные противоречия и конфликты содержания и формы. Так, И. Левый указывает, что «содержание и композиция произведения несут явственные следы эпохи, а при перевыражении его средствами современного языка черты старины проступают ещё яснее» [5: 100]. Другие приводят в качестве главной причины устаревания переводов смену переводческих подходов и стратегий. Например, Е.А. Третьякова отмечает, что в связи с усовершенствованием переводческих техник, несмотря на распространенное мнение о том, что более поздние переводы имеют более вольный характер и все больше отходят от оригинала, «в диахроническом плане характерна скорее обратная тенденция постепенного сближения оригинала и перевода» [7: 94]. При этом к созданию новых переводов обычно подталкивает неудовлетворенность качеством существующих вариантов перевода и желание максимально приблизить перевод к оригиналу.
Тем не менее, современный интеллигентный русскоязычный читатель зачастую относится к повторным переводам англоязычной классической литературы и усилиям переводчиков довольно скептически и без должного понимания, ссылаясь, как правило, на более ранние «правильные» переводы. Такое отношение связано с тем, что британская и американская классика прочно вошли в текстовую решётку русской культуры именно в советских переводах, и именно их принято считать правильными, в некотором роде «каноническими», поскольку в сообществе российских читателей к советской школе перевода вообще принято относиться с большим уважением. В связи с этим, выход повторных переводов британской и американской классической литературы часто вызывает бурные дискуссии, как среди знатоков словесности, так и среди рядовых читателей. Пожалуй, наиболее яркими и скандальными фигурами среди переводчиков новой школы, «покусившихся» на классику, являются Анастасия Грызунова и Максим Немцов. В данной статье мы обратимся к переводу романа Сэлинджера «The Catcher In the Rye», выполненному Максимом Немцовым, а также к переводу романа «The Wuthering Heights» Эмили Бронте, выполненному Анастасией Грызуновой. Эти переводы интересны в первую очередь тем, что они изначально мотивированы представлениями переводчиков о неверности и неточности переводов Риты Ковалевой-Райт и Надежды Вольпин соответственно, которые для читателя выступают в качестве «канонических». Поскольку переводы А. Грызуновой и М. Немцова вызвали неоднозначную (и чаще негативную) реакцию читательской аудитории, хотелось бы разобраться, насколько справедлива яростная критика в адрес переводчиков.
Классический роман британской литературы «Wuthering Heights» («Грозовой перевал» во всех вариантах перевода) Эмили Бронте переводился на русский язык несколько раз - Н. Вольпин (1956), А. Ненашевой (2005), У. Сапциной (2009), Н. Роговой (2012) и А. Грызуновой (2017). Как видно по датам выхода переводов, роман привлекает особое внимание переводчиков в начале XXI века, что можно, в том числе, связать с выходом двух популярных экранизаций романа в 1992 (режиссер Питер Козмински) и 2011 (режиссер Андреа Арнольд).
Надо отметить, что это отражает существующие в обществе тенденции – общеизвестно, что киноиндустрия играет важную роль в популяризации творчества того или иного автора в принимающей культуре, а так же во многом определяет перцепцию художественных произведений. Однако, ни один из более поздних переводов не снискал славы самого первого перевода – перевода Надежды Вольпин, который по сей день остаётся самым популярным у читателя и самым переиздаваемым.
Анастасия Грызунова, выполнившая последний перевод романа, утверждает, что перевод Надежды Вольпин сам по себе не так уж и плох, но полностью игнорирует пародийный характер романа Бронте и превращает его в серьёзный готический роман, искажая тем самым авторскую интенцию. Так, в своём Живом Журнале А. Грызунова пишет по случаю издания её перевода: « граждане, да вы спятили. это истерически смешная книжка – и нет, не потому, что полтора с лишним века прошло, она всегда была истерически смешная. редактировал это все, мы понимаем, мой сын, который потратил год (опять же, год! но другой год) жизни на честную научную работу про то, в частности, что “Грозовой Перевал” – ПАРОДИЯ на готический роман (там не только про ГП шла речь), и поэтому, собственно, я отдельно счастлива, что он меня редактировал, – он понимает, что внутри» (авторская орфография и пунктуация сохранены – П.К.). Любопытно, что в аннотации издательства «Эксмо» к переводу А. Грызуновой произведение Бронте квалифицируется как классический готический роман и романтическая книга, в которой разворачивается трагическая история: «Любителям “страшилок” просьба обратить внимание: готический роман, неоднократно упоминающийся в вампирской саге “Сумерки”, и одновременно самая романтическая книга всех времен – “Грозовой перевал” Эмили Бронте. Трагедия разворачивается на фоне мрачных вересковых пустошей в “дьявольской книге, немыслимом чудовище, объединившем все самые сильные женские наклонности…”» .
На первый взгляд мысль о пародийной природе романа, увидевшего свет в 1847 г., кажется довольно правдоподобной, учитывая достаточно давнюю к тому времени традицию готического романа, зародившуюся в Англии ещё в XVIII в., и тот факт, что Э. Бронте в своём произведении, действительно, с успехом эксплуатирует штампы готической литературы. Тем не менее, ни в британских, ни в отечественных литературоведческих исследованиях, посвященных творчеству Э. Бронте, не удается найти подтверждения точки зрения о пародийном характере произведения. Все исследователи отмечают лишь то, что автор использует классические черты готического романа для передачи нестандартных и новаторских для своего времени идей, поднимая вопрос о противоречии, в которое вступают естественные стремления человека и общественные установки.
Нельзя сказать, что установка переводчицы на передачу пародийности в итоге сильно сказывается на восприятии идейной стороны романа. Однако, одна черта, которая, видимо, призвана передать пародийный характер романа, определенно сразу бросается в глаза даже неискушенному читателю и затрудняет восприятие – неоправданное обилие архаичной и, откровенно говоря, странной лексики, в то время как практически ничего подобного мы в тексте оригинала не находим. Для того, чтобы проиллюстрировать, что имеется в виду, обратимся к самой первой главе романа в оригинале и переводе. Совершенно нейтральное со стилистической точки зрения слово «landlord» переводчица передаёт словом «домовладыка», «home» превращается в «пристанище», «dog» – в «псина», «see» – в «узреть». Указательное местоимение «this», а также определенный артикль методично транслируются устаревшими «сий, сей». На примере следующих отрывков можно проследить, насколько трудно воспринимается текст перевода А. Грызуновой в сравнении с оригиналом (полужирным шрифтом выделены наиболее сомнительные с нашей точки зрения переводческие решения):
«I would have made a few comments, and requested a short history of the place from the surly owner, but his attitude at the door appeared to demand my speedy entrance or complete departure…».
«Я бы отпустил замечанье-другое и испросил у хмурого владельца краткую историю поместья, однако тот воздвигся в дверях , по видимости, побуждая меня к поспешному вступлению в дом либо срочному отбытию…».
«Let me hope my constitution is almost peculiar: my dear mother used to say I should never have a comfortable home, and only last summer, I proved myself perfectly unworthy of one».
« Оставьте мне надеяться, что склад моего характера едва ли не своеобычен : как говаривала моя дражайшая матушка, не найдется пристанища, где я смогу преклонить главу , и лишь минувшим летом я оказался совершенно подобного пристанища недостоин».
Читателю приходится буквально продираться через искусственно введенные в текст архаизмы. При переводе второго отрывка А. Грызунова и вовсе вводит в свой текст отсылку к Библии: «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Евангелие от Матфея 8:20). В оригинале мы находим только «a comfortable home», которое не является аллюзией к английской версии соответствующего библейского стиха: «Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head ».
Всё это можно было бы считать элементами исторической стилизации в переводе, однако это не оправдано, как мы видим, ни самим оригиналом, ни даже обращением к русскому языку образца 1847 г.. К примеру, роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» вышел в свет в 1840 г., и язык романа Лермонтова совершенно не соотносим с языком перевода А. Грызуновой. Таким образом, складывается ощущение, что переводчица в своём стремлении передать пародийную природу романа Бронте усложняет и загромождает текст перевода, тем самым искусственно увеличивая дистанцию между автором и читателем. В целом, перевод Н. Вольпин читается гораздо легче.
А. Грызунова в своём Живом Журнале высказывает ещё одну претензию в отношении перевода Н. Вольпин: «я с уважением к переводу Надежды Вольпин, йоркширский диалект у нее сглажен до состояния зимнего катка – но я понимаю, что тут возможны разные подходы» (авторская орфография и пунктуация сохранены). Эта претензия представляется вполне обоснованной. Диалект используется автором при передаче речи слуг, и даже оригинальные издания романа снабжаются сносками и комментариями, поясняющими значение тех или иных высказываний для англоязычного читателя. Однако, в советском переводе романа диалектизмы полностью нейтрализуются, и колорит, связанный с ними, полностью утрачивается. А. Грызунова, напротив, всячески стремится сохранить их, что, без сомнения, можно отметить как достоинство перевода. Для иллюстрации возьмём несколько реплик слуги Джозефа в оригинале и в двух переводах:
«‘Whet are ye for?’ he shouted. ‘T’ maister’s dahn i’ t’fowld
Goa rahnd by th’ end ut’ laith, if yah went tuh spake tull him.»
« – Чего вам? – закричал он. – Хозяин там на овчарне. Пройдите кругом в конец двора, если у вас к нему дело» (Перевод Н. Вольпин).
«– Вы тутось чогой? – прокричал он. – Сам в овчарник пшёл. Вам итить кру-галем за пуню, коли с им охота побакулить» (Перевод А. Грызуновой).
Само название поместья «Wuthering Heights» также содержит диалектизм «wuthering», что поясняется в тексте первой главы романа:
«Wuthering Heights is the name of Mr Heathcliff’s dwelling, ‘Wuthering’ being a significant provincial adjective, descriptive of the atmospheric tumult to which its station is exposed in stormy weather».
А. Грызунова переводит его при помощи специально сконструированного неологизма «Громотевичная Гора», выводя сочетание «грозовой перевал» в качестве пояснения:
«Громотевичная гора – вот как зовётся обиталище господина Хитклиффа, говоря же проще – Грозовой Перевал. “Громотевичная” – таким образным манером на местном диалекте описывают атмосферные треволнения».
Тем не менее, переводчица (или, возможно, это решение издателей) не выносит такой перевод в качестве заглавия, и оставляет традиционное, уже прочно вошедшее в культуру и узнаваемое для читателя.
Роман американского писателя Дж. Д. Сэлинджера «The Catcher In the Rye», вышедший в 1951 году, переводили на русский язык трижды – Р. Ковалёва-Райт («Над пропастью во ржи», 1955), С. Махов («Обрыв на краю ржаного поля детства», 1998) и, наконец, М. Немцов («Ловец на хлебном поле», 2008). При этом стоит отметить, что книга полюбилась русскоязычному читателю именно в переводе Р. Ковалёвой-Райт, которому просто не существовало альтернативы на протяжении более 40 лет, и который отчасти поэтому видится как «канонический». Два более поздних варианта перевода нарочито противопоставлены советскому варианту даже вариантом названия. Представляется, что они в равной мере вдохновлены очевидными недостатками перевода Ковалёвой-Райт и возросшим в 1990-х – 2000-х гг. интересом к творчеству Сэлинджера. Однако, перевод Сергея Махова остался практически незамеченным читательской аудиторией, а вот перевод Максима Немцова вызвал бурную негативную реакцию, поэтому мы обратимся именно к нему.
Помимо явного устаревания с точки зрения передачи реалий (напр., в советском переводе «sandwiches» превращаются в «котлеты»), главные претензии к варианту Ковалёвой-Райт относятся к излишней приглаженности и чистоте речи главного героя в переводе по сравнению с оригиналом Сэлинджера, насыщенным подростковым сленгом и просто грубой сниженной лексикой (в связи с этим в своё время произведение вызвало негодование американских читателей и даже было запрещено в американских школах). Естественно, эта особенность связана с историческим контекстом, в котором создавался перевод: в условиях строгой цензуры переводчица просто не имела возможности сделать речь главного героя столь же резкой и шероховатой, как речь героя в оригинале. Общеизвестна история о том, как Р. Ковалёва-Райт сражалась с редактором за право сохранить в переводе хотя бы слово «говнюк», что ей, конечно же, не было позволено. Уступки цензуре позволили издать роман на русском языке, однако, сложно отрицать, что образ Холдена Колфилда в советском переводе был значительно искажен. Из угловатого подростка-бунтаря у Ковалёвой-Райт он превращается в хоть и страдающего, разрываемого противоречиями, но всё-таки глубоко интеллигентного и довольно сдержанного молодого человека.
Максим Немцов, не будучи ограниченным цензурой, с энтузиазмом берётся за передачу сэлинджеровского языка, претендуя на максимальную близость к оригиналу. Возьмём для примера самое начало романа, которое в достаточной мере иллюстрирует подход переводчика и тенденции, характерные данного варианта перевода:
« If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don’t feel like going into it, if you want to know the truth. In the first place, that stuff bores me, and in the second place, my parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They’re quite touchy about anything like that, especially my father».
«Если по-честному охота слушать, для начала вам, наверно, подавай, где я родился и что за погань у меня творилась в детстве, чего предки делали и всяко-разно, пока не заимели меня, да прочую Дэвид-Копперфилдову херню, только не в жилу мне про всё это трындеть, сказать вам правду. Во-первых, достало, во-вторых, предков бы по две кондрашки хватило, если б я стал для них чего-нибудь личное излагать. Они насчет такого чувствительные, особенно штрик».
Как видно при сравнении оригинала и перевода данного отрывка, Немцов слишком уж увлекся сленгом. В одном небольшом, приведённом нами отрывке встречаются сленгово-просторечные «погань», «всяко-разно», «херня», «не в жилу», «трындеть», «достало», «кондрашка хватит», «предки», «штрик». Переводчик выбирает верную стратегию относительно сохранения сленга, но явно перегибает палку, находя сленг там, где его нет. Так, совершенно нейтральные по стилистической окраске слова «parents», «father» М. Немцов без явной на то необходимости передает сленговыми «предки» и «штрик». Причем, слово «штрик» (‘старик’) вообще относится к воровскому жаргону, а уж никак не к подростковому сленгу, и неизвестно большей части русскоязычной аудитории. Надо отметить, что это не единственная подобная аномалия в тексте «Ловца на хлебном поле».
В итоге, образ главного героя, который вырисовывается при чтении перевода М. Немцова, так же отличается от сэлинджеровского - со всем этим сленгом и просторечными выражениями он кажется скорее не образованным подростком из хорошей семьи, запутавшимся и проходящим через трудный период в жизни, а беспризорником и уличным хулиганом. Сэлинджеровский Холден
Колдфилд, как нам представляется, - это золотая середина между героями Ковалёвой-Райт и Немцова.
Оба перевода после выхода (и перевод А. Грызуновой, и превод М. Немцова) встретили резкую критику со стороны читающей публики. Чтобы дать переводу какую-либо оценку, необходимо выбрать критерии. По словам П. Ри-кёра «не существует абсолютного критерия хорошего перевода» [6: URL], поэтому вопрос о качестве перевода всегда остаётся дискуссионным. Тем не менее, в рамках переводоведения существуют различные подходы к оценке перевода. Если речь идёт о литературно-художественном тексте, наиболее удачным представляется подход деятельностной теории перевода, согласно которому адекватным «признается такой перевод оптимально организованного художественного текста, который обеспечивает развитому реципиенту перевода возможность усматривать и понимать содержательность, состоящую из содержания и некоторой конфигурации смыслов и идей, максимально близкую содержательности, усматриваемой и понимаемой развитым реципиентом оригинала» [2: 55].
С такой точки зрения каждый из проанализированных выше переводов не лишен как достоинств, так и недостатков. Каждый из переводчиков явно занимает активную рефлексивную позицию, но при этом допускает перегибы. А. Грызунова гиперинтерпретирует текст, обнаруживая в нём элемент пародии, который пытается передать в переводе при помощи обилия архаизмов. Однако, пародийность не считывается при восприятии перевода, а архаизмы создают дополнительную дистанцию между автором и читателем. Что касается М. Немцова, при правильной установке на передачу молодёжного сленга в речи главного героя, он «перегибает палку», вводя жаргон и просторечие в перевод там, где они отсутствуют в оригинале, искажая тем самым образ героя Сэлинджера.
Тем не менее, несомненной ценностью этих переводов является то, что они заставляют читателя взглянуть на классику свежим, не «замыленным» взглядом и задуматься о роли переводчика, как не всегда невидимого посредника в трансляции литературного наследия. Более того, возможно, переводы А. Грызуновой и М. Немцова отражают тенденцию перехода к концепции переводческой непрозрачности в сфере художественного перевода, поскольку переводчики намеренно отражают в переводах свои стилистические предпочтения, вкусы и субъективную интерпретацию авторских идей. Непрозрачный переводчик не стремится представить свой перевод как оригинал, подчеркивая, что его текст является переводом, лишь одной из возможных интерпретаций оригинала. При этом мнения о том, на какого читателя ориентирован такой перевод, расходятся. Существует точка зрения, что такой перевод рассчитан на более квалифицированного и рафинированного читателя, готового участвовать в переводческом эксперименте. Однако, согласно другому мнению, популярности подобных переводов способствуют низкий уровень литературной культуры и слаборазвитое стилистическое чутьё у части читательской аудитории, поскольку «переводы, созданные с соблюдением принципа прозрачности, зачастую представляются такому читателю слишком гладкими, пресными и маловыразительными. При этом ожидание от перевода яркой выразительности иногда основывается только на том, что читатель, не владея в достаточной мере исходным языком, усмотрел такую выразительность во вполне традиционно написанном тексте оригинала» [1: 37]. Так или иначе, живая дискуссия вокруг данных переводов не может не радовать, поскольку она отражает читательскую заинтересованность и способствует популяризации классической литературы.
Список литературы Повторный перевод классической литературы как попытка её переосмысления (на материале переводов А. Грызуновой и М. Немцова)
- Бузаджи Д.М. Переводчик прозрачный и непрозрачный. Мосты. 2009, 2(22). С. 31-38.
- Галеева Н.Л. Основы деятельностной теории перевода. Тверь: Тверской государственный университет, 1997. 80 с.
- Казакова Т.А. Асимметрия как системное отношение в условиях перевода. Университетское переводоведение. Материалы X Междунар. науч. конф. по переводоведению "Фёдоровские чтения" (23-25 октября 2008 г.). Спб: СПбГУ, 2009. Вып. 10. С. 225-229.
- Колосов С.А. Русская литература за рубежом: на перекрёстках теории художественного перевода. В кн.: Русская литература за рубежом. Перевод как восприятие и восприятие перевода. Масленникова Е.М., Миловидов В.А. (ред.). Тверь: Тверской государственный университет, 2015. 240 с.
- Левый И. Искусство перевода. М.: Прогресс, 1974. 397 с.
- Рикёр П. Парадигма перевода. [Электронный ресурс]. URL: http://old.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20001102.html (дата обращения: 25.09.2019 г.)
- Третьякова Е.А. Перевод в диахронии (на материале разновременных переводов поэмы Дж. Мильтона "Paradise Lost"). Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Филология. 2012. №149. С. 87-95