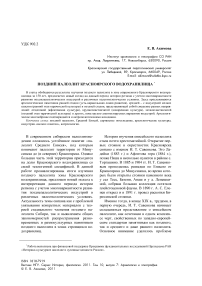Поздний палеолит Красноярского водохранилища
Автор: Акимова Елена Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии
Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье обобщаются результаты изучения позднего палеолита в зоне современного Красноярского водохранилища за 150 лет, предлагается новый взгляд на данный период истории региона c учетом многовариантности развития позднепалеолитических индустрий в различных палеоэкологических условиях. Здесь прослеживаются археологические памятники ранней стадии (усть-каракольская линия развития), средней - с индустрией мелких пластин (ранний этап тарачихской культуры) и поздней стадии, представляющей собой смешение разных направлений: отщеповой (афонтовская культура), крупнопластинчатой (кокоревская культура), мелкопластинчатой (поздний этап тарачихской культуры) и других, пока трудно диагностируемых вариантов индустрий. Археологическое многообразие подтверждается и антропологическими находками.
Поздний палеолит, средний енисей, сартанское похолодание, археологические культуры, индустрия "мелких пластин", антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/14737546
IDR: 14737546 | УДК: 902.2
Текст научной статьи Поздний палеолит Красноярского водохранилища
В современном сибирском палеолитоведении сложилось устойчивое понятие «палеолит Среднего Енисея», под которым понимают палеолит территории от Минусинска до (и севернее) Красноярска. Однако большая часть этой территории приходится на долю Красноярского водохранилища со своей техногенной спецификой. В данной работе проанализированы итоги изучения позднего палеолита зоны Красноярского водохранилища, предложен новый подход к интерпретации данного периода истории региона c учетом многовариантности развития позднепалеолитических индустрий в различных палеоэкологических условиях. Актуальность темы связана как с проблемой увязывания конкретных материалов с теорией стадиального членения позднего палеолита Сибири, так и выявлением общих закономерностей распространения разновременных и разнокультурных памятников позднего палеолита в зонах строящихся водохранилищ.
История изучения енисейского палеолита стала почти хрестоматийной. Открытие первых стоянок в окрестностях Красноярска связано с именем И. Т. Савенкова. Это Ладейки (1883 г.) и Афонтова гора (1884 г.), позже Няша и несколько пунктов в районе с. Торгашино. В 1885 и 1904 гг. И. Т. Савенковым проводились разведки по Енисею от Красноярска до Минусинска, во время которых были открыты стоянки каменного века у сел Тесь, Батени, Анаш и у д. Лепешкиной, собрана большая коллекция остатков плейстоценовой фауны. В 1890 г. А. С. Еле-нев открыл и в 1891 г. провел раскопки Би-рюсинской стоянки.
Именно тогда, в конце XIX в., трудами, в первую очередь, И. Т. Савенкова начинает складываться представление о енисейском палеолите, как сочетании в одном комплексе черт, свойственных по западно-европейским стандартам памятникам как позднего, так и среднего и даже раннего палеолита. Основное внимание уделялось проблеме специфики сибирского палеолита, воплощением которого казался палеолит Енисея. Основной источниковой базой являлись материалы Афонтовой горы [Астахов, 1999. C. 8–42].
В 1920-е гг. основные усилия красноярских исследователей (Г. П. Сосновский, Н. К. Ауэрбах, В. И. Громов) были сосредоточены на изучении палеолита окрестностей Красноярска [Сосновский, 1924; 1934. С. 246–304: Ауэрбах, 1930. С. 4–50]. Только в 1923 и 1925 гг. Г. П. Сосновский провел разведку и небольшие раскопки стоянок у д. Кокорево, а в 1926–1927 гг. Н. К. Ауэрбах и В. И. Громов – раскопки Бирюсинской стоянки [Сосновский, 1935; Ауэрбах, Громов, 1935].
В середине 1930-х гг. вышли обобщающие работы Г. П. Сосновского о енисейском и сибирском палеолите на основе общепризнанной теории стадиальности. Основным звеном являлись изменения окружающей среды, влекущие за собой и изменения в каменной и костяной индустрии. В палеолите Енисея Г. П. Сосновский выделял две заключительные стадии сибирского палеолита, относя к начальной стадии только материалы Мальты. По-прежнему Г. П. Сосновский использовал, в основном, материалы красноярских памятников: Афонтовой горы, Переселенческого пункта, Военного городка, Ладеек, но включал и группу у д. Кокорево: Забочку, Тележный, Кипирный и Каменный Лога (современные Кокорево I–IV) [Соснов-ский, 1934].
На протяжении последующих десятилетий уровень знаний о палеолите Енисея оставался на уровне 1930-х гг. Полевые исследования велись в крайне скромных масштабах. В 1948 г. разведку от Красноярска до Абакана предпринял Э. Р. Рыгдылон, он же провел раскопки Бирюсинской стоянки на площади 100 кв. м [1953]. Эти материалы так и остались неопубликованными. В конце 1950-х гг. началось форсированное строительство Красноярской ГЭС, стимулировавшее тем самым относительно большой размах археологических работ на Енисее. И тогда и сегодня не вызывал и не вызывает вопросов факт недостаточности предпринятых мер. Полноценное спасение древнейшего наследия требовало многократно большего количества квалифицированных рабочих рук и несоизмеримо большего времени.
Раскопки З. А. Абрамовой, проводившиеся во время строительства ГЭС, при всей легендарной масштабности физически не могли охватить даже часть известных позднепалеолитических объектов. Основные работы были сосредоточены в районах поселков Кокорево, Новоселово и Таштык. Единственным памятником в северной части будущего водохранилища была Бирю-синская стоянка, раскопанная Н. Н. Гуриной и Л. П. Хлобыстиным.
В 1960-е гг. в советском палеолитоведении начала распространяться концепция локально-культурного подхода к позднему палеолиту. Для Енисея этот методологический подход был применен З. А. Абрамовой, выделившей две параллельно развивающиеся археологические культуры: афонтовскую (Кокорево II, III, Таштык I и II и др.) и коко-ревскую (Кокорево I, Новоселово I, II, Аеш-ка и др.) с принципиальным различием в специфике основной заготовки и, соответственно, в морфологии и категорийном наборе каменного инвентаря [Абрамова, 1979а; 1979б]. Определенные различия прослеживались и в костяных орудиях, и в элементах структуры поселений (очаги). На протяжении долгого времени эта идея вызывала скептицизм у некоторых археологов, как правило, работавших за пределами Енисея. Постепенно, со смещением палеолита Енисея на периферию круга актуальных научных проблем, интерес к теме несколько притупился.
Одновременно с выделением афонтов-ской и кокоревской культур, уже в конце 1960-х – 1970-е гг., в зоне Красноярского водохранилища были открыты памятники другого типа, имевшие отдаленные черты сходства с Мальтой и Буретью в Прибайкалье, выражающиеся, в частности, в использовании небольших пластин и пластинчатых сколов с одно- и двухсторонней краевой ретушью. З. А. Абрамова предложила считать такие стоянки, как Тарачиха и Афанасьева гора (а также Ачинская стоянка на Чулыме) локальным вариантом мальтино-буретской археологической культуры и ввела термин «ангаро-чулымская культурная область», объединяющая сходные местонахождения Прибайкалья, Енисея и Чулыма [Абрамова, 1979б. C. 192–194; 1983].
Заполнение Красноярского водохранилища привело к прекращению финансирования и свертыванию археологических ис- следований. В 1970–1980 гг. «точечные» работы на водохранилище велись одним отрядом Н. Ф. Лисицына [1997; 2000]. Только во второй половине 1980-х и в 1990-е гг. наблюдалась интенсификация исследований, но в рамках Куртакского археологического района (Н. И. Дроздов, Е. В. Артемьев и др.) (см.: [Археология…, 1992. С. 48–109; Дроздов и др., 2000] и др.). Во многом это было связано с интересом к памятникам более раннего времени (Бережеково, Разлог, Усть-Ижуль I, Каменный Лог, Верхний Камень и др.). При этом практически отсутствовала какая-либо стратегия изучения позднего палеолита, работы на позднепалеолитических стоянках (Усть-Ижуль II, Аб-рашиха, Трифоновка, Саженцы и др.) всегда велись «попутно» решению главной задачи – изучению раннего палеолита [Акимова и др., 1996; Томилова и др., 1999; Акимова, 2008]. Самым значимым объектом стала Каштанка I, датированная рубежом каргин-ского-сартанского времени и до сих пор остающаяся экзотом для енисейского палеолита [Археология…, 1992. С. 106–109; Стасюк, Томилова, 1997]. В 1998–2007 гг. велись стационарные работы в Дербинском заливе, где изучались объекты позднекар-гинского-раннесартанского (Дербина IV, V, Усть-Малтат II, Покровка I, II и др.) и позд-несартанского (Малтат, Конжул и др.) времени (см.: [Акимова, Стасюк, 2009; Акимова, 2010; Стасюк и др., 2002; Стасюк, Акимова, 2008; Харевич, 2010. С. 5–24] и др.). Именно на Дербине была сделана уникальная антропологическая находка – фрагмент черепа homo sapiens с датой 27 740 ± 150 ВР (ОхА 19850) [Акимова и др., 2002; Бужилова и др., 2009; Akimova et al., 2010].
Опыт работы последних десятилетий позволяет видеть специфические проблемы палеолитоведения в зоне Красноярского водохранилища, связанные, в первую очередь, с неостановимым разрушением вмещающих толщ и, соответственно, с необходимостью анализировать в большинстве своем подъемные сборы с размываемых береговых отмелей.
С одной стороны, скептическое отношение к интерпретационным возможностям подъемных материалов, даже в ситуациях размыва культурных слоев, выходящих на поверхность береговой отмели, вынуждает проходить мимо очевидных явлений и фак- тов. Сам термин «подъемные сборы» становится клеймом, несмотря на конкретные условия получения материалов. Обратной стороной является игнорирование в практической деятельности специфики подъемных сборов, в результате чего создается представление о памятниках с очень разнородным инвентарем, практически выпадающих из какого-либо единого «образа». Во многих случаях эта ситуация уже недоступна проверке. Так, вероятнее всего, двухслойным (многослойным?) памятником является Тарачиха, где присутствуют материалы, традиционно относимые к «ранней» и «средней» стадиям позднего палеолита. Нередко подъемные сборы с разрушенных объектов финальнокаргинского времени принимались (и принимаются) за позднесартанские (кокоревская культура) в связи с внешним типологическим сходством (остроконечники, скребки, нуклеусы для крупных пластин). Это не приводило к глобальным выводам, но на «бытовом уровне» воспринималось именно как плотная заселенность в сартанское время на фоне единичных каргинских объектов. Подобные сборы известны, в частности, на Куртаке и Приморске.
Корреляция подъемных сборов с материалами, полученными в результате сравнительно небольших по масштабам раскопок отдельных памятников, сомнительна по результатам. Для подъемных сборов, как правило, количественно более представительных, необходимо учитывать, что соотношение крупных и мелких предметов, орудий, нуклеусов и отходов производства может быть искажено, даже при идеальной методике сборов. Небольшие площади раскопок также не дают сколько-либо объективной картины из-за специфики вскрытого участка.
При затоплении в 1960–70-е гг. уничтожены нижние и средние ярусы енисейских террас, вероятно, заселяемые человеком в более теплые периоды. В результате, в зоне Красноярского водохранилища сегодня, видимо, нет памятников первого сартанского интерстадиала, известно минимум памятников кокоревского времени [Лаухин и др., 2000]. Выпадает целый хронологический пласт, что приводит к разрыву общей картины развития позднепалеолитических индустрий на протяжении сартанского времени.
Наши сегодняшние знания о позднем палеолите Енисея позволяют представить более сложную картину, чем казалось возможным допустить еще 20 лет назад. В позднекаргинское время бассейн Среднего Енисея был заселен анатомически современным человеком без каких-либо проявлений монголоидности и неандерталоидности [Бужилова и др., 2009]. Плотность заселения неопределима, но памятники этого времени найдены по обоим берегам Енисея и его малым притокам. К ним относятся Дербина IV, V, Усть-Малтат I, II, Покровка I, II и другие объекты в Дербинском заливе, Каштанка III–IV в окрестностях Куртака, Сабаниха у пос. Первомайское и, видимо, уже уничтоженные местонахождения в окрестностях Приморска. Судя по непаспортизированным сборам, хранящимся в частных коллекциях и местных поселковых и школьных музеях, есть основания считать, что большинство объектов этого времени уже уничтожено и даже примерное их количество оценить невозможно. Вероятно, даже с учетом вариаций, основными признаками для этого почти потерянного пласта являлись овальные и листовидные бифасы, скребловидные, скоблящие и режущие орудия на крупных пластинах, крупные нуклеусы с элементами техники леваллуа, торцовое микрорасщепление на начальной стадии зарождения и развития. Нижняя возрастная граница этих памятников, видимо, не выходит за рамки конощельского времени. Выдвинута гипотеза привнесения верхнепалеолитической традиции на Енисей в усть-каракольском варианте либо развития ее под влиянием индустрий усть-каракольской линии [Ста-сюк, Акимова, 2008; Харевич, 2010. С. 20– 24; Харевич и др., 2010]. Единственным памятником этого времени с отщеповой индустрией пока считается Куртак IV [Лисицын, 2000. С. 18–22].
На рубеже сартанского времени произошла смена индустрий: уменьшение размеров пластинчатых заготовок, исчезновение бифасов с одновременным расширением видов ретуши и способов ее нанесения, резким увеличением роли резцов как следствие (или причина) широкого использования бивня мамонта. Природа этого явления пока не объяснена. Индустрии, распространившиеся на Енисее в начале сартанского времени, стали называть «мелкопластинчатыми» [Лисицын, 1996; 2000.
С. 31–44], в отличие от «микропластинча-тых» индустрий второй половины сартан-ского времени. Все памятники этой группы очень разные: с одной стороны, это стоянки типа Афанасьевой горы с одноплощадочными монофронтами и пластинками-вкладышами прямоугольной формы с ретушью по одному краю и обоим концам («афанасьевский тип») и с ретушью только по усеченному концу («лиственский тип»); с другой – стоянки типа Шленки, Приморска и Тарачихи с призматическими нуклеусами и пластинками и ретушью по одному краю, усеченным прямому и диагональному концам («приморский тип») [Акимова, Анненский, 2005; Акимова, 2006; 2010]. Особняком пока стоят Каштанка I и Саженцы с датами в пределах 24–22 тыс. лет. По мнению Н. Ф. Лисицына, на рубеже 16– 15,5 тыс. л. н. произошло перерождение мелкопластинчатой индустрии в кокорев-скую археологическую культуру [2000. С. 109–125]. Этот процесс перехода фиксируют в культурном слое Тарачихи и во 2-м культурном слое Новоселово XIII с соответствующими датами. Таким образом, вся группа памятников зоны Красноярского водохранилища с характерной «мелкопластинчатой индустрией» была отнесена к средней стадии позднего палеолита. Ранне-сартанские датировки в сочетании с характерным инвентарем хорошо укладывались в представление о граветтийском эпизоде в Восточной Европе. Тенденция к уменьшению размеров орудий стала рассматриваться как всеобщая стадия развития позднего палеолита в Евразии.
Проблема, однако, заключается в том, что «мелкопластинчатая традиция» не может быть связанной только со средней стадией позднего палеолита, так как она не прекращается около 15 тыс. л. н., а развивается до конца сартанского периода параллельно кокоревской и афонтовской археологическим культурам. Об этом свидетельствуют стоянки Дербины – Малтата: Конжул и Ближний Лог с датами в пределах 12–9,5 тыс. л. н., но по типологии каменного инвентаря близкие Афанасьевой горе [Акимова и др. 2005; Акимова, 2010]. Было предложено памятники Среднего Енисея, обладающие набором определенных признаков в системе расщепления и каменном инвентаре, датированные в диапазоне 22(20?)–11 тыс. л. н., объединить в рамках одной археологической куль- туры. Предпочтительное название для нее по праву приоритета – «тарачихская». В ее рамках прослеживаются два неясно очерченных локальных варианта, которые могут быть названы «афанасьевский» (Афанасьева гора, 19-й культурный слой Лиственки, Волчиха, Малтат, нижние культурные слои Конжула, возможно, Трифоновка и 2-й культурный слой Новоселово XIII) и «шленкинский» (Шленка, Приморск, Тара-чиха) [Акимова, 2006; 2008]. К первому варианту надо отнести и Ачинскую стоянку. Приток Оби – Чулым, связывающий Среднюю и Западную Сибирь, протекает сегодня всего в 20 км западнее с. Новоселово. Следовательно, появление типично енисейского памятника у Ачинска может быть связано именно с расселением носителей индустрии «мелких пластин» с Енисея вниз по Чулыму [Акимова, 2008].
Таким образом, в сартанское время в позднем палеолите Енисея возникает нестандартная ситуация. В течение 4–5 тыс. лет в долине Енисея существовала общность, характеризующаяся определенной спецификой инвентаря, ориентированная на мамонта как основной объект охоты, выбирающая для расселения пониженные участки местности [Stasuk, Akimova, 2010]. Можно предполагать, что плотность населения в период 20–16 тыс. л. н. была невысокой. Возможно, с этой разобщенностью и связана высокая степень вариабельности каменного инвентаря разных памятников, как предполагал для «мелких пластинчатых индустрий» Западной Сибири В. Н. Зенин [2005. С. 332–354]. На рубеже 16–15 тыс. л. н. произошли существенные изменения, которые нам представляются как «расщепление» тарачихской культуры в дальнейшее ее развитие в двух направлениях: становление кокоревской культуры (если прав Н. Ф. Лисицын) и сохранение мелких форм до конца сартанского времени. При этом если памятники кокоревской культуры располагаются повсеместно вдоль Енисея, то стоянки позднего этапа тарачихской культуры пока известны исключительно в среднем течении малых притоков Енисея. Высказана гипотеза, что во второй половине сартанского времени доминирующее кокоревско-афонтов-ское население Енисея вытеснило носителей тарачихской культуры в долины мелких притоков. Так, возможно, в условиях определенной изоляции в Дербинском археоло- гическом районе сформировался своеобразный рефугиум с сохранением традиционных приемов обработки камня, но адаптированных к особенностям местного каменного сырья. Этим, в частности, может объясняться доживание индустрии «мелких пластин» до начала голоцена [Акимова, 2008; Мах-лаева, 2003]. Возможно, в подобных условиях оказались и носители позднекаргинской индустрии крупных пластин, имеющей на Алтае более древние датировки [Стасюк, Акимова, 2009; Харевич, 2010].
Таким образом, варианты проявлений культур поздней стадии, датированной второй половиной сартанского времени, выходят далеко за рамки традиционной пары «афонтовская-кокоревская», даже учитывая различия внутри обеих групп [Васильев, 1988]. О значительно большем многообразии археологических культур на Среднем Енисее свидетельствуют не только Малтат, Конжул и Ближний Лог, но и Дербина IX, Дербина IVА, Лысый лог I и II в Дербин-ском заливе, Усть-Ижуль II и Абрашиха в Ижульском заливе и др. За пределами водохранилища в окрестностях Красноярска – это Уртень, Есауловка III, Солонцы, отдельные слои Лиственки [Акимова и др., 2005] Все эти памятники располагаются по малым притокам Енисея, что предполагает, в частности, использование иных сырьевых ресурсов, кроме галечника прирусловой части Енисея.
С продолжающимся разрушением берегов зоны Красноярского водохранилища тема афонтовской и кокоревской археологических культур стала терять источниковую базу. Сейчас нельзя назвать даже приблизительно количество сохранившихся памятников, поскольку подавляющее большинство подъемных сборов абсолютно недиагно-стично. Новым «классическим» кокорев-ским памятником является стоянка Трифо-новка, частично раскопанная в 1999 г. и, вероятно, уничтоженная паводками в последующие годы [Томилова и др., 1999]. Более полная картина прослеживается в окрестностях Красноярска, непосредственно севернее Красноярской ГЭС. В группе сохранившихся афонтовских памятников здесь, помимо Афонтовой горы II, все 8 слоев Большой Слизневой, Нанжуль, 4-й культурный слой Лиственки; в кокоревской группе – большинство культурных слоев Лиственки, Военный городок, Коркино, Кубеково,
Усть-Мана [Акимова, 2003]. Просматривается тяготение носителей кокоревской культуры к прирусловой части Енисея, в то время как носители иных индустрий осваивали более широкую территорию, по крайней мере, нижнее и среднее течения малых притоков Енисея. Предложен вариант более позднего заселения кокоревцами долины Енисея и передвижения их вдоль магистрального русла реки [Акимова, 1992. С. 6].
Ко второй половине сартанского времени относятся немногочисленные антропологические находки: нижняя челюсть ребенка из 12Г культурного слоя Лиственки [Акимова, 1998. С. 98–101] и фрагмент лобной кости, найденный на Афонтовой горе II еще в 1937 г. Если дербинский человек конощель-ского времени является европеоидом без каких-либо признаков неандертолоидности, то у лиственского ребенка эти признаки присутствуют [Шпакова, 1997]. Для афон-товского же человека характерна выраженная монголоидность [Дебец, 1946]. Таким образом, к концу позднего палеолита не складывается даже видимости сколько-либо цельной картины: археологическая пестрота подкрепляется противоречащими друг другу антропологическими материалами.
Перспективы работ на Красноярском водохранилище не определены. Переориентация на хоздоговорные работы на Богучанской ГЭС заставила прекратить все работы на Енисее. Однако процесс разрушения берегов здесь неостановим. Вполне реальной представляется перспектива полного уничтожения позднего палеолита Среднего Енисея в зоне Красноярского водохранилища в ближайшие десятилетия.
LATE PALEOLITHIC KRASNOYARSK RESERVOIR