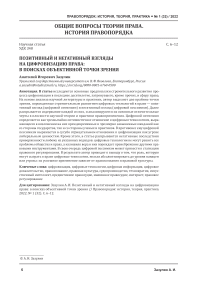Позитивный и негативный взгляды на цифровизацию права: в поисках объективной точки зрения
Автор: Зазулин А.И.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Общие вопросы теории права. История правопорядка
Статья в выпуске: 1 (32), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются основные предпосылки стремительного развития процесса цифровизации в последнее десятилетие, затронувшего, кроме прочих, и сферу права. На основе анализа научной литературы и практики, автор выделяет две крайние точки зрения, порожденные стремительным развитием цифровых технологий в праве - позитивный взгляд (цифровой оптимизм) и негативный взгляд (цифровой пессимизм). Далее раскрывается содержание каждой из них, и анализируются их основные отличительные черты в плоскости научной теории и практики правоприменения. Цифровой оптимизм определяется как чрезвычайно оптимистичное отношение к цифровым технологиям, выражающееся в возложении на них преждевременных и чрезмерно завышенных ожиданий как со стороны государства, так и со стороны ученых и практиков. В противовес ему цифровой пессимизм выражается в сугубо отрицательном отношении к цифровизации как угрозе либеральным ценностям. Кроме этого, в статье раскрываются негативные последствия приверженности любому из указанных подходов: цифровые технологии не могут решить все проблемы общества и права, а излишняя вера в них порождает пренебрежение другими правовыми инструментами. В свою очередь цифровой пессимизм может привести к стагнации правового регулирования. В результате автор приходит к выводу о том, что роль, которую могут сыграть в праве цифровые технологии, нельзя абсолютизировать до уровня панацеи или угрозы: их успешное применение зависит от правосознания и правовой культуры.
Цифровизация, цифровые технологии, цифровая информация, цифровое доказательство, правосознание, правовая культура, судопроизводство, технократия, искусственный интеллект, предиктивное правосудие, машинное правосудие, интернет, правовое регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/14123707
IDR: 14123707 | УДК: 340
Текст научной статьи Позитивный и негативный взгляды на цифровизацию права: в поисках объективной точки зрения
Уральский государственный университет им. В. Ф. Яковлева, Екатеринбург, Россия ,
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev, Yekaterinburg, Russia ,
В настоящее время мы являемся свидетелями бурного развития цифровых технологий. Оглядываясь вокруг, нам нет нужды требовать дополнительных доказательств того, что «цифра» стала не только одним из самых перспективных направлений технического прогресса, но и технологией, изменившей очень многие аспекты человеческой жизни, и, прежде всего, общественную жизнь.
С одной стороны, этому способствовало развитие Интернета, который к концу прошлого десятилетия превратился в по-настоящему глобальную сеть, когда к нему получило доступ более половины населения Земли. С другой стороны, цифровой бум обусловлен уменьшением размера вычислительных устройств в соответствии с законом Мура. По мере уменьшения вычислителей, они становились все более доступными и удобными для приобретения и использования.
Развитие Интернета и совершенствование компьютерных процессоров являлись взаимообусловленными процессами, главным результатом совместного действия которых стал рост количества людей и организаций, способных качественно и быстро обрабатывать и обмениваться информацией.
В итоге, второе десятилетие XXI века стало тем логически обусловленным этапом, когда рост обоих данных показателей привел к возникновению условий для цифровизации — процесса интеграции цифровых технологий в различные сферы общественной жизни, в том числе экономику и образование [4, с. 10].
Коснулась цифровизация и области права, инициировав огромную волну как практического, так и научного интереса. Государства начали активно реализовывать проекты электронных правительств, автоматизировав предоставление множества государственных услуг; расширились возможности взаимодействия с судами через Интернет; технологии стали активно интегрироваться в избирательный процесс. Свет увидело большое количество научных исследований, посвященных различным аспектам цифровизации, в том числе использованию цифровых доказательств и технологий в различных видах судопроизводства.
Все эти изменения, безусловно, нельзя не считать положительным явлением, позволяющим государству и праву, с одной стороны, адаптироваться к изменениям в обществе, вызванным прогрессом, а с другой — взять новые технологии «на вооружение». Между тем, как и любое иное серьезное технологическое достижение [5, с. 216], цифровизация в праве породила два полюса оценки ее последствий: цифровой оптимизм и пессимизм.
Описание исследования
Цифровой оптимизм — чрезвычайно оптимистичное отношение к цифровым технологиям, выражающееся в возложении на них преждевременных и чрезмерно завышенных ожиданий. Такого рода переоценка главным образом выражается в представлении новейших технологий в качестве инструмента, способного качественно преобразить существующие правовые институты или решить большинство существующих в настоящее время правовых проблем. Со стороны государства такая переоценка состоит в осознанном технократизме — рассмотрении цифровых технологий в качестве самого эффективного инструмента разрешения имеющихся у государства проблем и достижения поставленных им задач.
Так, некоторые ученые считают, что технология блокчейна приведет к перестройке отношений между людьми, между государством и человеком, в том числе в связи с необходимостью разрешения правовых конфликтов [2, с. 12]. Другие придерживаются еще более радикальных идей о том, что мир нуждается в новом праве, максимально непохожем на существующее, роль которого может сыграть цифровое право. «Поэтому предчувствие миссии цифрового права связано отнюдь не только с цифровой революцией» — пишет В. Н. Синюков [12, с. 15]. Его мысль продолжает О. Усков: «следует понять, что перспектива цифрового права вовсе не в необходимости адаптировать к повседневной правовой среде цифровые технологии. Перспектива цифрового права — в новых формах социального регулирования, переходе к иной модели социального и правового порядка» [14, с. 40].
Такое отношение к высоким технологиям свойственно не только отечественной, но и международной науке. Так, Я. Кац пишет, что цифровая революция «создала ложное впечатление, что современные системы превзошли человеческие способности до такой степени, что многие сферы жизни, от научных исследований до судебной системы, лучше всего управляются машинами» [20].
Между тем, при такой оценке влияния технологий часто опускается само обоснование того, как цифровизация может настолько изменить правовое регулирование, что оно достигнет качественно нового уровня, сформировав черты отличной от существующей модели. Есть ли у таких футуристических предположений существующие предпосылки или исторические преценденты?
К сожалению, в настоящее время мы не можем говорить о том, что цифровизация качественно изменяет общественные отношения. Да, появляются новые способы и формы заключения договоров, новые виды договорных отношений, новые объекты гражданских прав, новые способы совершения правонарушений и новые способы их обнаружения. Но сама концепция договора, правонарушения или судопроизводства не меняется. Качественно новых правоотношений или правовых явлений не появляется — создаются лишь более автоматизированные цифровые версии уже существующих.
Такое положение вещей естественно, ведь суть цифровизации заключается в преобразовании всей имеющейся информации в цифровой формат для последующей автоматизации работы с ней. Это может разрешить некоторые проблемы права — но не может создать совершенно новый социальный порядок. Цифровизация, скорее, может сыграть роль лишь одной из многих иных, не менее важных и взаимосвязанных друг с другом, предпосылок экономического, социологического и политического плана.
Также и в прошлом, само по себе распространение письменности не изменило существующих в то время правовых институтов и не изменило моделей судебного производства: в нем остались устные начала, дополненные письменными формами [8, с. 169]. Возникновение и развитие исторических и существующих ныне моделей судебного производства обусловлено более глубокими и комплексными причинами, чем простое внедрение новых технологий передачи и обработки информации.
Исключение из данных выводов, не претендующих на неоспоримость, все же есть — это создание в результате цифровизации сильного искусственного интеллекта (ИИ) — т. е. по-настоящему автономного антропоморфноразумного существа [7, с. 53–69]. Между тем, вопрос о том, существует ли принципиальная возможность создания такого ИИ, пока не решен [21], не говоря уже о практическом воплощении данной технологии.
Переоценка возможностей цифровых технологий наблюдается не только науке, но и практике, где она приобрела форму «презумпции достоверности цифровых доказательств».
К примеру, в настоящее время в некоторых штатах США в судах используются так называемые «предиктивные программы» — алгоритмы, позволяющие на основе криминальной истории и социально-демографических характеристик подозреваемого установить риск нарушения им той или иной меры пресечения [17]. Результаты работы таких программ могут быть учтены судом при избрании меры пресечения. Независимое тестирование одной из таких программ, COMPAS, показало, что ее степень точности составляла лишь 60 % по всем видам преступлений, а по насильственным — только 20 %. Несмотря на это, программа продолжает использоваться судами как инструмент, якобы позволяющий увеличить степень объективности судьи [16, с. 17].
Не менее показателен случай пересмотра в 2019 году 10 700 приговоров датских судов, вызванный обнаружением сбоя в работе полицейской программы обработки геолокаци-онных данных мобильных устройств. В указанных делах суды не смутило противоречие между полученными в результате работы полицейской программы данными и иными доказательствами [18]. Проблема повышенного судебного доверия к цифровым доказательствам отмечается и в отечественной судебной практике [15]. Как отмечает К. Бухард, «здесь мы еще раз сталкиваемся с уже констатированным выше сдвигом доверия, от доверия людям к доверию высоким технологиям» [16, с. 17].
Цифровой оптимизм свойственен не только науке и практике, но и самому государству, которое многократно подчеркивает связь между качеством государственного управления и внедрением цифровых технологий. Все чаще решение тех или иных проблем связывается с цифровой революцией [3].
Противоположностью цифрового оптимизма является цифровой пессимизм, представляющий собой критическое отношение к цифровым технологиям, заключающееся в представлении их влияния как сугубо негативного, влекущего за собой деградацию общественных отношений и правовых институтов.
Так, например, А. И. Овчинников считает, что «развитие технологий электронного контроля, осуществляемого с помощью цифровых технологий… приведет к построению тотального электронно-банковского концлагеря, в котором идеи демократического государства и справедливого общества приобретут такую интерпретацию, которую и не представляли себе их разрабатывавшие мыслители Просвещения» [9, с. 31].
Как указывает А. Н. Пилипенко, цифровизация вызывает явно выраженные опасения у французских ученых и судей [10, с. 200]: не редки противопоставления справедливого традиционного правосудия машинному и «бесчеловечному» цифровому [19, с. 92].
Заключение и выводы
Цифровой оптимизм и пессимизм дают нам две принципиальных точки зрения на цифровые технологии — одни считают их панацей, другие — угрозой.
Негативный характер полного отказа от цифровых технологий в праве очевиден — регресс и луддитский подход еще никогда не приводили к успешному решению проблем, ведь любая новая технология социально и экономически обусловлена и неизбежна. Вопрос заключается лишь в том, как ее правильно применить.
Опасность же цифрового оптимизма видится в том, что он может существенно отвлечь внимание от решения более комплексных и сложных проблем чем те, которые он действительно может решить. К сожалению, очень легко поверить в то, что электронное ознакомление обвиняемого с делом или использование цифровых доказательств, а также многочисленные автоматизации судебного процесса смогут повысить качество правосудия и снизить вероятность судебных ошибок. Наивно также полагать, что только за счет введения цифровых прав и легализации электронного контракта начнется стремительный экономический рост.
«Цифра» не является панацеей только в силу того, что представляет собой новое достижение прогресса. Такое представление о ней является пережитком старого линейного взгляда на развитие человечества, в рамках которого любой прогресс автоматически приравнивается к «лучшему порядку». Возвращаясь к примеру с распространением письменности, заметим, что ее введение в судебный процесс некоторыми исследователями также оценивается не только положительно, но и негативно [6].
В этой связи нельзя, в частности, не поддержать позицию К. Л. Брановицкого и Л. А. Тереховой, согласно которым новые технологии и удобное программное обеспечение решают, скорее, ведомственные задачи и повышают оперативность в работе судов, но сами по себе не могут повысить качество правосудия [1, с. 62; 13, с. 16].
Нельзя забывать о том, что цифровые технологии сами по себе — всего лишь инструмент, а его правильное применение зависит от людей. Топор может быть хорошим инструментом как для убийцы, так и для строителя. Нажав кнопку, нельзя изменить людей, нельзя сделать судопроизводство более гуманным, а экономику — живой и развивающейся. Как ответ такому наивному подходу и возникает цифровой пессимизм, проистекающий скорее от недостатка веры в людей, которые могут воспользоваться цифровыми технологиями.
Технически развитое общество не является априори справедливым и открытым. Удобно скрыть за «цифрой» более глубокую, более комплексную и важную проблему воспитания у человека правового сознания: проблему, до сих пор остро стоящую во многих современных обществах. Как нельзя кстати к этому подходят слова М. П. Полякова и А. Ю. Смолина: «Нужно совершенствовать человека… быть может, удастся навстречу волне технизации… направить другую тенденцию… в центре которой будет человек, нацеленный на поиск не только объективной информации, но и на поиск красоты» [11, с. 192].
Представляется, что правовое регулирование должно учитывать указанные реалии — технологизация права должна идти параллельно с повышением уровня правовой культуры. «Отставание» последнего может привести к тому, чего боятся цифровые пессимисты — значительному увеличению как цифровой преступности, так и степени государственного технократического контроля.
Список литературы Позитивный и негативный взгляды на цифровизацию права: в поисках объективной точки зрения
- Брановицкий К. Л. Использование информационных технологий в контексте оптимизации гражданского судопроизводства // Закон. 2018. № 1. С. 59-70.
- Власова С. В. К вопросу о приспосабливании уголовно-процессуального механизма к цифровой реальности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 1. С. 9-18.
- Гельман В. Иллюзии технократов: что нужно российской власти от «цифровой революции» // РБК : [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/opinions/politics/23/01/2018/5a66e82f9a79471faf25aa74 (дата обращения: 03.04.2021).
- ДаниловаЛ. Н., Ледовская Т. В., Солынин Н. Э., Ходырев А. М. Основные подходы к пониманию цифровизации и цифровых ценностей // Вестник костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. № 2. С. 5-13.
- Деменев А. Г. Философские проблемы химических и технических наук : учебное пособие. Архангельск : ИД САФУ, 2014. 284 с.
- Клэнчи М. Воспоминания о прошлом и старый добрый закон // VMA. 2015. № 2-3 (13-14). URL: https://cyberleninka.rU/article/n/vospominaniya-o-proshlom-i-staryy-dobryy-zakon (дата обращения: 16.03.2021).
- Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд : монография. Москва : Буки Веди, 2017. 257 с.
- Овчаренко А. В. Некоторые аспекты проявления устности и письменности на отдельных стадиях гражданского и арбитражного процесса // Вестник ВГУ Серия: Право. 2010. № 1. С. 167-179.
- Овчинников А. И. Тенденции развития права в условиях нового технологического уклада // Философия права. 2018. № 3 (86). С. 26-32.
- Пилипенко А. Н. Франция: к цифровой демократии // Право. Журнал высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 185-207.
- Поляков М. П., Смолин А. Ю. Технология уголовного процесса: «за» или «против» человека процессуального // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 189-192.
- Синюков В. Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской правовой системы // Lex Russica. 2019. № 9 (154). С. 9-18.
- ТереховаЛ.А. Некоторые аспекты доступности правосудия // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 10. С. 12-17.
- Усков О. О необходимости реформирования процессуального законодательства при внедрении элементов электронного правосудия // Вестник судейского сообщества Белгородской области. Специальный выпуск. 2016. № 5. С. 36-42.
- Шварц О. Использование цифровых технологий в уголовном процессе. О новых возможностях для работы защитника // Адвокатская газета. 2021. № 5 (334). URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/ ispolzovanie-tsifrovykh-tekhnologiy-v-ugolovnom-protsesse/ (дата обращения: 03.04.2021).
- Burchard Ch. Künstliche Intelligenz als Ende des Strafrechts? Zur algorithmischen Transformation der Gesellschaft // Normative Orders Working Paper. 2019. no. 02. pp. 3-29.
- Christin A., Rosenblat A., Boyd D. Courts and predictive algorithm // Data & civil rights: A new era of policing and justice. October 27, 2015, Washington, DC. URL: http://www.datacivilrights.org/pubs/2015-1027/ Courts_and_Predictive_Algorithms.pdf (accessed: 03.04.2021).
- Ewald U. Volatilität digitaler Beweise — Herausforderung für die Cyber-Strafverteidigung // Rechtsanwälte für Wirtschaftsstrafrecht in Kooperation : [website]. URL: https://rechtsanwaelte-wirtschaftsstrafrecht-berlin. de/volatilitaet-digitaler-beweise-herausforderung-fuer-die-cyber-strafverteidigung (accessed: 03.04.2021).
- Garapon A., Lassègue J. Justice digitale: révolution graphique et rupture anthropologique. Paris, Presses Universitaires de France, 2018. 364 p.
- KatzYa. Manufacturing an Artificial Intelligence Revolution // SSRN. 2017. URL: http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.3078224 (accessed: 03.04.2021).
- SearleJ. Minds, Brains, and Programs // Behavioral and Brain Sciences. 1980, no. 3, pp. 417-424.