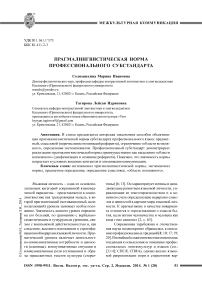Прагмалингвистическая норма профессионального субстандарта
Автор: Солнышкина Марина Ивановна, Тагирова Лейсан Идрисовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 1 (20), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается авторская таксономия способов объективации прагмалингвистической нормы субстандарта профессионального языка: предметный, смысловой (перечисление номинаций референта), ограничение «области возможного», определение экстенсионалом. Профессиональный субстандарт демонстрирует реализацию прагмалингвистической нормы преимущественно как выделение «области возможного» (дисфемизация и осмеяние референта). Показано, что значимость нормы возрастает в условиях внешних контактов и элиминации коммуникации.
Интенсионал прагмалингвистической нормы, экстенсионал нормы, предметное определение, определение смысловое, "область возможного"
Короткий адрес: https://sciup.org/14969750
IDR: 14969750 | УДК: 811.161.1373
Текст научной статьи Прагмалингвистическая норма профессионального субстандарта
Языковая личность – одна из основополагающих категорий современной языковедческой парадигмы – представляется в социолингвистике как трехуровневая модель, в которой прагматический (мотивационный, целеполагающий) уровень занимает особое положение. Значимость данного уровня определена его большей, по сравнению с вербальносемантическим и тузаурусным уровнями, связью с внеязыковой действительностью и, как следствие, высоким положением в стратификационной иерархии языковой личности. Прагматический уровень включает деятельностно-коммуникативные потребности и ценности (единицы), коммуникативные ситуации и коммуникативные роли (отношения) и образы прецедентных текстов культуры (стерео- типы) [6; 13]. Он характеризует мотивы и цели, движущие развитием языковой личности, управляющие ее текстопроизводством и в конечном счете определяющие иерархию смыслов и ценностей в картине мира языковой личности. К прагматикону в качестве инварианта относится и «представление о смысле бытия, цели жизни человечества и человека как вида гомо сапиенс» [2, с. 63].
Современная зарубежная и отечественная наука неоднократно обращалась к описанию профессиональных традиций [8; 10; 17; 19; 20]. В новейшей социолингвистике наметилась тенденция к осмыслению и описанию профессиональных лингвокультур и языков (см.: [3;14]; СПСЯ, СПЯА), однако анализ языковой репрезентации норм и стереотипов вер- бального поведения представителей различных профессиональных культур далеко не завершен.
Абстрагируясь от отношений, ситуаций и ролей указанного уровня, сосредоточим свое внимание на описании деятельностно-коммуникативных потребностей профессиональной языковой личности, объективируемых в профессиональном субстандарте. Заметим при этом, что потребности и ценности во многом определяют выбор профессиональной личностью необходимого ей для коммуникации (как в институциональном, так бытовом и бытийном дискурсах) спектра вербально-семантических средств и жанров создаваемых ею текстов, а также формируют иерархию значимых концептов.
Очевидно, что некодифицированная 1 составляющая профессионального языка отражает истинную прагмалингвистическую норму профессионального коллектива, поскольку именно в субстандарте табу и цензура сведены к минимуму. Профессиональный стандарт идеологизирован и вербализирует ценностные установки общества, но далеко не всю нормативно-ценностную картину профессионального сообщества. Норма же как «узаконенное установление; обычный, общепринятый, обязательный порядок; состояние чего-л., образец, правило» (СРЯ, c. 508–509) определяет диапазон «хорошего» и «плохого», устанавливает границы одобряемого и неодобряемого сообществом спектра действий, объектов и характеристик. Норма профессионального стандарта, зафиксированная в соответствующих регламентирующих документах, определяет поведение (как языковое, так и внеязы-ковое) языковой личности в ситуациях высокого регистра общения. Например, глава 6 Морского кодекса гласит: «В случае, если… капитан судна вынужден временно оставить мостик, капитан судна должен уведомить об этом лоцмана и указать ему лицо, ответственное за управление судном в отсутствие капитана судна» [7]. Интенсионал нормы профессионального субстандарта есть совокупность принятых в профессиональном сообществе стереотипов поведения, а также параметров объектов живого и неживого мира [12]. Праг-малингвистическое определение нормы социума во всем многообразии ее вербальных представлений (предметное и смысловое определения, определение с выделением «области возможного», определение экстенсиона-лом и др. [16]) предполагает обращение как к системе профессионального языка, так и к речевым произведениям, в том числе прецедентным текстам.
Таким образом, в фокусе нашего внимания находится прагмалингвистическая норма, транслируемая в рамках неформального дискурса, не вербализуемая в высоком стилевом регистре, но существенным образом влияющая не только на отношения в среде профессионалов, но и на их работу. Материал изучения представлен единицами языка (более 17 000 номинативных и коммуникативных единиц русского и английского языков), зафиксированными в опубликованных словарях профессионального субстандарта (СМЯ, СПСЯ, СПЯА, СРВА), и текстами, авторами которых выступают коллективная профессиональная языковая личность (байки, шутки, розыгрыши, тосты, песни, легенды и др.) или конкретные лица, занятые в определенной сфере деятельности (письма, тексты в альбомах, сообщения в чатах, форумах, блоги и др.). Картотека авторов содержит более 45 000 иллюстраций функционирования указанных единиц в более чем 1 800 произведениях русскоязычных и англоязычных авторов, а также в современной публицистической литературе и на интернет-сайтах.
Показательно, что в отличие от нормы стандарта норма профессионального субстандарта носит асистемный характер, она более динамична и семантически расплывчата. При этом экстенсионал профессионального субстандарта составляют не только профессиональные реалии, но и объекты, не имеющие прямого отношения к профессиональной деятельности: face like a sea boat / seaboot «жалкий, несчастный, имеющий скорбное выражение лица»; face like a scrubbed ’ammick «бледный, имеющий угрюмое, недовольное выражение лица».
Профессиональный субстандарт демонстрирует широкую палитру вербализаций праг-малингвистической нормы в опоре на четыре основных логических способа: предметное определение, определение области смыслов, определение возможностей и определение эк-стенсионалом.
-
I. Предметное определение нормы как определение путем объединения представлений предполагает обращение к конкретному референту реального мира и демонстрацию дефиниендума. Например, в железнодорожном социуме: …у нас время отдыха в оборотном пункте должно быть от 0,5 до 1 (умножается на время работы). Все, что свыше – переотдых (IV).
Текст предметного определения, сопровождающий демонстрацию, предполагает, в зависимости от характеристик дефиниенду-ма, дескриптивность или нарративность. Ср. в языке шахтеров: Это были, так называемые, вскрышные работы – вскрывали запасной выход с тыльной стороны одного из подземных сооружений. Нужно было срезать край сопки и… получить ровную площадку (I). В языке профессиональных лесников: Отвод выборочных рубок у нас представлял такую картину: пробивка визир постановка столбов пробивка магистрального волока пасечного и площадки далее перечет всего намеченного. И клеймение 2 (V) .
Дидактичность и прямое указание на необходимость выполнения определенного действия также находим в приметах и пословицах. Например: When the rain before the wind, topsail sheets and halyards mind (Если дождь, а ветер вслед, / Чтоб избавиться от бед – / Ни минуты не зевай, / Марсофалы отдавай); Hoist (your) ail while (when) the wind is fair ( посл. Поднимай паруса, пока дует (попутный) ветер. ≈ Куй железо пока горячо) .
-
II. Определение области смыслов нормы как несистематизированное перечисление всех имеющихся в исследуемой предметной области смыслов предполагает иллюстрирование смыслового наполнения знака. Например, ин-тенсионал термина sailor («моряк») определяется в морском профессиональном субстандарте рядом единиц: коммуникативных [ Though sailor’ s is salty but noble ( посл. И хотя моряк просолен, он благороден); A sailor can’t be brought up by land ( посл. Моряка на суше не воспитаешь) и др.] и номинативных ( sailor’s blessing «проклятие, ругательство»; sailor’s best friend « гамак»; sailor’s friend «луна», «гамак»; sailor ’s champagne «пиво»; sailor ’s farewell «проклятие при прощании»; sailor’s
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ friend «луна»; sailor’s pleasure «одиночество», «жалобы на судьбу»; sailor’s weather «хороший попутный ветер»; sailor’s yarn «неправдоподобный рассказ, байка»).
Определения данного типа как наиболее характерные для профессионального субстандарта различаются двумя основными параметрами: индексом частотности (фреквентально-сти) единицы языка в дискурсе и плотностью номинации соответствующего понятия в языке. Плотность номинации свидетельствует о степени эмоциогенности референта, а способ номинации прямо или косвенно эксплицирует иерархию ценностей языковой личности. Например, значение «погибший на пожаре человек» вербализовано в десяти профессионализмах подъязыка пожарных: больной Зайцев, горняк, жмур, жмурик, карандаш, сотый, каспер, ласточка, кролик, тополь .
Показательно, что в центре косвенной номинации профессионального субстандарта, в отличие от терминологической системы, не артефакт, не производственные действия, а человек, его состояние, характеристика поступков. Так, в подъязыке музыкантов: забойщик «исполнитель рока»; жмуровик «музыкант, играющий на похоронах»; главбух «барабанщик»; вокалюга «солист»; зажаренный «немолодой богатый певец» и др. Простое перечисление номинаций лица, например, в спортивном подъязыке демонстрирует спектр нормативных требований сообщества к спортсмену: башня «высокий, сильный футболист»; бык «мощный, тяжелый форвард»; челнок «фланговый футболист»; золотая ручка «игрок с высоким процентом попадания».
-
III. Определение при помощи выделения «области возможного» предполагает определение существующих связей, ограничение допустимого и обязательного, а также «интеграцию данной нормы в общую систему порядков социальной действительности» [16], например: прикладывание руки к головному убору как знак приветствия старшего по званию (в военной культуре), запрет на свист в шахте среди горняков, отказ от использования прилагательного последний во многих корпоративных культурах и замена его на крайний : крайний рейс, крайняя смена .
Известно, что в армии и ВМФ иерархия отношения дополнена дедовщиной и годков- щиной – неуставными отношениями, эксплуатацией молодых солдат и матросов старослужащими. Исследуя данное явление в армии, К.Л. Банников приходит к выводу, что «насилие составляет каркас системы ценностей в армии и превращается в идеологию» [1]. Отсюда появление целого ряда единиц, характеризующих данный феномен: годок «матрос последнего года службы (привилегированные служащие)»; карасёвка «период времени, когда моряка могут подвергать унижениям»; карась «матрос, отслуживший первые полгода». Исследования подтверждают, что «“беспредел” имеет не только свои правила и логику, но также и аналогии в истории традиционных культур, уводящие в глубокую древность» [там же].
Вместе с тем профессиональный субстандарт, в основном следуя нормам социума, стремится найти субституты прямым номинациям преступлений, болезней, травм, бедности, войны, смерти, не соответствующих этическим стереотипам лиц, артефактов и т. д. [4]. Например, водораздел ( пожар. «развал системы Государственной противопожарной службы»), Rose Cottage ( мор. « венерический диспансер»), выписать паспорт («выписать направление в морг»), blue canary («погибший пожарный»). Эвфемизация используется в крайних случаях, когда коллективная профессиональная личность отказывается прямо номинировать объект: Было куплено 78 одинаковых чемоданов, в каждый положили по новенькому тельнику, бескозырке. <…> И поехали по всему Союзу фибровые гробы с « грузом 200 » (VI).
Механизм эвфемизации высвечивается при сравнении семантической структуры субститута и его коррелята – анцедента. Как правило, основу эвфемизации составляет семантическая редукция – исключение одной или нескольких дифференциальных сем из денотативного макрокомпонента коррелята или перемещение ядерной семы в позицию потенциальной. Например, вместо воровать ( оборудование ) используется оптимизировать расположение [18]. Русскому нашел ( перен. воен. «украл») соответствует английское got ( букв. «получил», перен. воен. «украл»). Генерализация смысла лежит в основе образования английского устойчивого сочетания to acquire
( an item ) ( букв. «обрести (объект), тайно получить что-то дефицитное»).
Спектр способов эвфемизации профессионального субстандарта включает как синтаксические (аббревиация, эллипсис), так и лексико-семантические (метонимия, метафора, антонимия, cинонимия, гиперо-гипонимичес-кие отношения, прономинализация, использование единиц более высокого стилистического уровня). Высокочастотными способами являются метафоризация, аббревиация, метонимия. Например, большая труба ( пожар. «крематорий»); BSH ( B ritish S tandard H andfuls ) («женская грудь»); adjustment of the front ( букв. «выравнивание линии фронта», воен. «отступление»). Фонетические замены имеют место во всех изученных языках: горняк ( пожар. «сгоревший человек»), люсенька [мед. «больная с диагнозом сифилис» (от лат. luis «сифилис»)]. Как видим, эвфемизация профессионального субстандарта, в отличие от аналогичного процесса в высоком регистре коммуникации, предполагает возможность реализации не только нейтральных, но и мелиоративных сем в структуре значения. Общим в обоих случаях является изменение отрицательной коннотации антецедента на положительную или нейтральную консеквента – эвфемизма.
Дисфемизация (процесс противоположный эвфемизации) используется с целью изменить тональность профессионального дискурса в сторону пейоративности, вызвать у партнера по коммуникации эмоции, спектр которых варьируется от досады до гнева. Именно об этом пишет В.И. Шаховский, именуя эмотивность «важнейшим компонентом прагматики языка» [15, с. 5]. Показательно, что дисфемизация профессиональной коммуникации не всегда оскорбляет собеседника, поскольку этические нормы субстандарта смещены. Кроме того, высокая частотность функционирования профессионализмов способствует снижению «заряда инвективности». В условиях частого профессионального стресса возникает необходимость в «речевом поглощении эмоций»; спонтанная речь на профессиональные темы достаточно образованных людей, прекрасно владеющих терминологией своей отрасли, «инкрустируется» профессиональными жаргонизмами [13, с. 211–
219], например: Та, це ж тупейцы , тьфу! – путейцы на железной дороге (II).
Специфика дисфемизации профессионального субстандарта состоит в том, что в ее спектре – одобряемые макросообществом референты. Например, змея ( шахт. «начальник участка»), мясник ( мед. «хирург»), самоделкин ( мед. «врач-травматолог») .
Профессиональный субстандарт во многих случаях скрывает дисфемизацию посредством наложения дополнительного юмористического смысла. Например, бриллиантовая рука ( воен. шутл.-ирон. «солдат-хлеборез»), парашютисты ( мед. «больные, получившие травмы в результате падения»), космонавты ( мед. «парализованные больные»). (Полу)зам-кнутость профессиональных сообществ, удаленность от родных мест, периоды свободного времени, перемены эмоционального состояния, высокая степень риска, насилие послужили причиной возникновения целого ряда юмористических единиц, а также текстов комической природы (шуток, розыгрышей, анекдотов). Считается, что, «несмотря на безрадостность своего положения, люди в подобных сообществах чрезвычайно смешливы» [1]. В профессиональных социумах категория комического, реализуемая не только во всех фольклорных жанрах профессиональной культуры – тосте, анекдоте, байке, розыгрыше, но и на вербально-семантическом уровне, имеет особою ценность. Комическое выступает обличителем сил зла, отсталости и лени, невежества и самовлюбленности, самодурства и насилия.
«Комическое раскрывается путем его противопоставления неким общечеловеческим идеалам. Комическое порождает одухотворенный ими смех, отрицающий одни человеческие качества и утверждающий другие» [11]. Абсолютно очевидна пейоративная оценка самолета и аэропорта Шереметьево в следующем высказывании: Кстати, а в чем была причина гибели баклажана на взлете в Шаромойкино? (III). Профессиональный язык фиксирует традицию давать прозвища, каждое из которых также содержит не только оценку, но и демонстрацию отношений субъекта и объекта номинации. В прозвищах зафиксированы мотивировки, иронически отражающие особенности речи и внешнего вида объекта номинации. Например, в русском морском языке: ветчина с горошком – прозвище капитана 1-го ранга Н.И. Берлинского (по цвету лица); семь пудов августейшего мяса – прозвище великого князя А.А. Романова (1850–1910), генерал-адъютанта, адмирала, шефа ВМФ, так как был могуч и тяжел.
Таким образом, основным способом определения «области возможного» является установление нижнего предела допустимости (эвфемизм / дисфемизм), а также осмеяние. Мелиоративная коннотация, хотя и имеет место ( кэп «капитан»; помуха «помощник командира»; дед «старший механик» и т. д.), крайне нетипична для профессионального субстандарта.
-
IV. Определение экстенсионалом предполагает деление понятий на три экстенсиональных класса (свой, чужой и неизвестный) и соотнесение каждого понятия с классом соответствующих ему подобий.
«Существует общеязыковая (и общеповеденческая) установка на герметизацию языка и поведения. Диапазон реализаций этой установки огромен: здесь и особенности произношения, и жест, и осанка, и походка, и специфика построения фразы, и коверканье слова, и образ жизни. Словом, существует богатейшая система средств, как лингвистических, так и экстралингвистических, при помощи которых индивид подчеркивает свою принадлежность к определенному гермосоциуму» [5, с. 595]. Принадлежность к социуму подчеркивается сознательно или неосознанно. Показательны в этом отношении пейоративные номинации болельщиков футбольного клуба «Спартак», образованные футболистами и болельщиками других клубов: бутчер, гладиатор, му-сарня, мусор, мусоропровод, мясник, мясо, народник, свинина, свинтух, свинья, спар-тач, старая гвардия .
Профессиональная герметика выражается в стремлении представителей одной профессии противопоставить себя представителям других профессий или групп. «Чем ниже мы спускаемся в сферу профессионального арго, тем сильнее данная [“мы – они”] антитеза. Для большинства арго она является своего рода универсалией, а уж в сфере арготизированного просторечья она дает рефлекс в многочисленных инвективах, где наименования “чужих” осмыс- лены в площадно-смеховом, общебранном ключе» [5, с. 591]. Традиционно все моряки с некоторой иронией относятся к представителям других профессий, в первую очередь военных сухопутных профессий: сапоги («пехота»); brown clown (букв. «коричневый клоун», перен. «армейский офицер»). Профессиональная самоидентификация присутствует, например, в императиве Трави!, использующемся при спуске шлюпки с борта судна, вместо нейтрального Опускай! или интержаргонного Майна!; при смещении ударения: компáс, штурманá, баржá; при изменении управления глагола: sail in; использовании формантов -pig, -merchant, -ex.
Стратификация внутри англоязычного морского сообщества привела к вычленению двух больших групп единиц, используемых матросами, с одной стороны ( lower-deck ), и офицерским составом ( wardroom ) – с другой: waisters («матросы низкой квалификации»); Daddy’s yacht («неграмотный матрос»); dirt sailor («матрос строительного батальона»); drongo («недисциплинированный матрос»); salt horse ( букв. «солонина»; перен. «офицер без специального образования») и др.
Таким образом, анализ способов объективации прагмалингвистической нормы выявил преимущественно косвенный характер ее фиксации в профессиональном субстандарте. Наиболее часто используются приемы дисфеми-зации и осмеяния, реже – дидактические способы (пословицы, поговорки) и прямое (предметное) определение нормы. Таксономия способов выявления нормы включает: прямое определение, перечисление актуальных смыслов, определение «области возможного», определение экстенсионалом, то есть соотнесение референта с классом «своих», «чужих», «неизвестных». Особую значимость прагмалингвисти-ческая норма обретает при внешних контактах, а также в ситуации герметизации и при общении с новыми представителями сообщества.
Список литературы Прагмалингвистическая норма профессионального субстандарта
- Банников, К. Л. В армии, как на зоне: насилие и унижение стали нормой/К. Л. Банников//Новая камчатская правда. -Электрон. текстовые дан. -2000. -№ 12. -Режим доступа: http://www.iks.ru/~n kp/arh iv/html_arhiv/2000/12/12_2.html. -Загл. с экрана.
- Баранов, А. Н. Что нас убеждает. Общественное сознание и язык/А. Н. Баранов. -М.: Знание, 1990. -64 с.
- Валиева, Р. Х. Универсальное и национально-специфическое в профессиональном подъязыке: на материале лексики русского и английского вариантов профессионального музыкального некодифицированного подъязыка: дис. … канд. филол. наук: 10.02.20/Валиева Рауза Харисовна. -Казань, 2006. -168 с.
- Гальперин, И. Р. Стилистика английского языка/И. Р. Гальперин. -М.: Высш. шк., 1981. -335 с.
- Елистратов, В. Арго и культура/В. Елистратов//Словарь русского арго: Материалы 1980-1990-х гг. -М.: Рус. слов., 2000. -C. 574-692.
- Караулов, Ю. Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения/Ю. Н. Караулов//Язык и личность. -М.: Наука,1989. -С. 3-11.
- Кодекс торгового Мореплавания (Морской кодекс). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.morkodeks.ru/kodeks/morkodeksru/mk-glava6.html. -Загл. с экрана.
- Латыпов, Н. Р. Особенности межъязыкового изоморфизма метафорической номинации (на материале русского и английского вариантов профессионального подъязыка авиации): дис. … канд. филол. наук: 10.02.20/Латыпов Нияз Растамович. -Казань, 2007. -158 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь/гл. ред. В. Н. Ярцева. -М.: Сов. энцикл., 1990. -685 с.
- Мочелевская, Е. В. Этнокультурная маркированность единиц профессионального подъязыка (на материале русского и английского вариантов подъязыка пожарной охраны): дис. … канд. филол. наук: 10.02.20/Мочелевская Елена Владимировна. -Казань, 2009. -274 с.
- Пешкова, А. В. Трактовка категории комического в XVIII веке/А. В. Пешкова//Науки о культуре -шаг в XXI век: конф.-семинар, 22 мая 2001 г., Москва. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.php?lang=r&c1=10&id=2&file=peshkova.html. -Загл. с экрана.
- Солнышкина, М. И. Профессиональный морской язык/М. И. Солнышкина. -М.: Academia, 2005. -256 c.
- Фельде, О. В. Комическое в профессиональном дискурсе/О. В. Фельде//Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «История. Филология». -2011. -Т. 10, вып. 9. -С. 140-146.
- Фельде, О. В. Проблемы и перспективы лексикографического описания русского профессионального субстандарта/О. В. Фельде//Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Филология. Искусствоведение». -2011. -№ 33 (248), вып. 60. -С. 209-213.
- Шаховский, В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка/В. И. Шаховский. -Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. -199 с.
- Шухов, А. Проблема сингулярного начала моделирующей реконструкции и социального развития/А. Шухов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://nounivers.narod.ru/hist/ihist.htm. -Загл. с экрана.
- Щепанская, Т. Б. Антропология профессий/Т. Б. Щепанская//Журнал социологии и социальной антропологии. -2003. -Т. 6, № 1 (21). -С. 139-161.
- Эвфемизмы в речи шахтеров. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.on.kz/u8960/blogpost/32583/. -Загл. с экрана.
- Cogan, M. L. Toward a Definition of Profession/M. L. Cogan//Harvard Educational Review. -1953. -Vol. 23, № 1. -P. 33-50.
- Millerson, G. The Qualifying Association/G. Millerson. -London: Routlege and Kegan Paul, 1964. -P. 134-157.