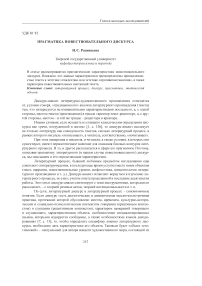Прагматика повествовательного дискурса
Автор: Разницына Наталья Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются прагматические характеристики повествовательного дискурса. Показано, что данные характеристики предопределены принадлежностью текста к эстетике «тождества» или эстетике «противопоставления», а также характером повествовательных инстанций текста.
Литературный процесс, дискурс, прагматика, этетический объект
Короткий адрес: https://sciup.org/146121998
IDR: 146121998 | УДК: 81’42
Текст научной статьи Прагматика повествовательного дискурса
Дискурс-анализ литературно-художественного произведения отличается от, условно говоря, «традиционного» анализа литературного произведения (текста) тем, что интересуется не имманентными характеристиками последнего, а, с одной стороны, местом текста (произведения) в триаде «креатор-текст-рецептор», а, с другой стороны, местом – в той же триаде – рецептора и креатора.
Иными словами, если исходить из ставшего классическим определения дискурса как «речи, погруженной в жизнь» [1, с. 136], то дискурс-анализ исследует не столько литературу как совокупность текстов, сколько литературный процесс, в рамках которого писатель «пописывает», а читатель, соответственно, «почитывает».
При этом намерения и писателя, и читателя, а также условия, в которых они существуют, имеют первостепенное значение для описания базовых контуров литературного процесса. И то, и другое располагается в сфере его прагматики. Поэтому, описывая прагматику литературного (в нашем случае повествовательного) дискурса, мы описываем и его определяющие характеристики.
Литературный процесс, бывший любимым предметом исследования еще советского литературоведения, в последующее время уступил место иным объектам (текст, нарратив, повествовательные уровни, мифопоэтика, концептология литературного произведения и т. д.). Дискурс-анализ позволяет вернуться к изучению литературного процесса, но уже с учетом опыта проделанной в последние десятилетия работы. Этот опыт дискурс-анализ синтезирует с теми инструментами, которыми он располагает, – с теорией речевых актов, теорией интенциональности и т. п.
По сути, литературный дискурс и литературный процесс – синонимичные понятия. Если дискурс «есть диалогическая и динамическая мыслительно-речевая практика, протекание которой обусловлено местом, временем, культурно-историческим и социально-психологическим контекстом говорения (креативным контекстом) и слушания (рецептивным контекстом), характером намерений говорящего и слушающего, характеристиками объекта, особенностями специализированных языков, которыми кодируется сообщение, а также особенностями языков декодирования» [7, с. 13], то, чтобы определить специфику именно литературного дискурса, необходимо дать характеристики его объекта. Таковым будет «объект эстетический» – «актуальный для автора концепт художественного мира, состоящий из двух компонентов – самой картины мира (диктум) и модальной рамки (модус), через которую картина мира соотносится с категорией прекрасного» [Там же, с. 128].
При этом есть возможность уточнить, применительно к литературно-художественному дискурсу, восходящую к Ш. Балли дихотомию «модус-диктум» [2]. Модальная рамка, формирующая «оболочку» эстетического объекта, включает в себя, вероятно, не только отношение формируемой автором картины мира к категории прекрасного, но и, что особенно важно для нашей темы, отношение к «технологическим» аспектам литературного дела – предшествующей и текущей литературной традиции, конвенциональным нормам письма, нарративным и прочим моделям, существовавшим и существующим в рамах креативного и рецептивного контекстов, формирующих модус эстетического объекта. Это отношение и есть объект прагматики.
О том, насколько важно при определении прагматики повествовательного дискурса учитывать «технологический» аспект модуса эстетического объекта, говорит, например, классическая оппозиция «эстетики тождества» и «эстетики противопоставления», о которой писал Ю. М. Лотман [6, с. 226–227]. Как показывает классик отечественного структурализма, в рамках первой «мегапарадигмы» задачей автора является как можно более точно следовать художественному и эстетическому канону, разработанному предшествующими эпохами. В рамках второй эстетической системы авторство реализуется прежде всего как нарушение художественного и, возможно, эстетического канона, противопоставление становящегося здесь-и-сейчас текста предшествующей традиции.
Слово возможно в предыдущем предложении, как оператор эпистемиче-ской модальности, позволяет пока отложить обсуждение самой возможности реализации противопоставления в сфере эстетического. Поскольку эстетическое является неким универсальным, вневременным качеством этетического объекта, так как центрируется вокруг понятия «прекрасное», то, с одной стороны, можно предположить, что его атрибутами является неизменность и неизменяемость. С другой стороны, дискурс-анализ, отстаивающий принцип вариативности художественного и эстетического [7, с. 125–133], позволяет говорить о социальной, групповой, культурно-исторической и иной стратификации категории «прекрасное» и, соответственно, о вариативности эстетического.
Но и отложив данную проблему, можно в контексте концепции Ю. М. Лотмана построить предварительную модель прагматики повествовательного дискурса – так, как это позволяют сделать принципы дискурс-анализа.
Так, эстетика «противопоставления», бытие которой ограничено романтической и постромантической эпохой, противится проникновению в художественные системы этой поры принципов и норм (нарративных схем), которые были отработаны в рамках эстетики «тождества», противится реализации принципа тождества, вполне уместного в доромантическую эпоху. Если таковое проникновение и осуществляется – в силу тех или иных прагматических установок креатора, – то чревато оно порождением художественного анахронизма. К таковым вполне относится так называемая «формульная» литература, использующая и в известном смысле доводящая до совершенства нарративные схемы, бытовавшие в эпоху господства эстетики «тождества», массовая беллетристика, коммерческая литература, иные ее формы, которые преследуют внеэстетические цели.
Прагматическим вектором, который обусловливает бытие данных нарративных схем, является ретроспектива.
С другой стороны, в хронологических рамках периода господства эстетики «тождества» возникали нарративные схемы, противостоящие принципам этой эстетики и также в силу этого анахронистичные. Но такого рода анахронизм носит проспективный характер, поскольку открывает перспективы использования нарративных схем, которые утвердятся в будущем, за хронологическими рамками актуальной литературной эпохи.
Таким анахронизмом оказался, например, роман «Жизнь и мнения Тристана Шенди, джентльмена» Л. Стерна – невероятная для своего времени пародия на нравоописательные и бытовые романы С. Ричардсона и Г. Филдинга, в которой разработанные XVIII веком нарративные модели (обстоятельность и неспешность описания жизни героя, являющиеся характерными чертами биографического романа, «парный» характер актантной структуры, особый тип нарративного сбытия и т. д.) доведены практически до абсурда. Стерн разрушает нарративные схемы романа воспитания, временные рамки взросления и становления героя, который часто не участвует в эпизодах и практически не произносит ни слова за все девять томов романа. Можно предположить, что «кон-темпоральный» реципиент, читающий «Тристана Шенди» и знакомый с типом романа-биографии, романа-воспитания, попадает в ловушку, построенную одной из главных интенций автора: выбить читателя из привычной колеи, заставить по-новому взглянуть на данный тип романа и, соответственно, разрушить канон, выработанный просветительским романом. Что касается реципиента, хронологически позиционированного в рамки века эстетики «противопоставления», то, будучи в полной мере начитан в современной романистике, он тоже устроит «ловушку», на этот раз креатору, представив его своим современником.
В этом поле пересечения прагматических установок автора (креатора) и читателя (реципиента) и станут происходить все базовые модуляции повествовательного дискурса. Более детальная картина прагматики возможна на основе учета и более детальных дифференциаций в рамках этой базовой конструкции.
Так, реципиентом можно назвать и автора, так как в определенный момент творческого процесса он становится рецептором, интерпретатором и, по сути, первым читателем и критиком своего произведения, что создает сложности с определением границ креативной и рецептивной фаз. Об этом говорят многие писатели. М. Пришвин, например, пишет в своем дневнике: «Первый мой читатель – это я сам; когда проходит сколько-то времени, и я же делаюсь своим собственным судьей. Не раз случалось, что первый я, написавший в “самозабвении” что-нибудь, ходит удовлетворенный собой до тех пор, пока не является “я-сам”, и, прочитав написанное, разрывает рукопись на мелкие клочки и бросает их в корзину. Так распадается в творчестве один человек на двух, на писателя и на читателя. Первое я – это мечтатель-писатель, второе я, или я сам – это читатель и хозяин» [8, с. 553].
Далее: работая с повествовательным дискурсом, мы не можем забывать, что креативное начало включает в себя целый ряд повествовательных инстанций, каждая из которых также «заряжена» определенной прагматикой.
Б. О. Корман, например, выделяет три значения понятия «автор»: писатель, как реально существующая личность, «некий взгляд на действительность, выражением которого является все произведение» [4, с. 8], а также «автор», под которым понимают «повествователя». Разграничивается автор биографический и образ автора (то есть повествователь, рассказчик, герой как носитель точки зрения автора). Однако бывает, что образ автора сохраняет некие черты биографичности, так как в его основе «лежат, в конечном счете мировоззрение, идейная позиция, творческая концепция писателя» [Там же, с. 10].
При этом каждая из повествовательных инстанций также основана на определенной прагматике, взаимодействие которых и формирует общую прагматику по-вествовательности.
Прагматические характеристики дискурса – это «обусловленная внешними и внутренними обстоятельствами интенциональность креатора и рецептора в отношении процедур использования знакового средства, процедур текстопроизводства и тексторецепции» [7, с. 142]. Основной упор при анализе и выявлении прагматических характеристик повествовательного дискурса делается на субъекта, на его отношение к предмету (эстетическому объекту). Это отношение зависит не только от личных (внутренних) качеств участника дискурса, но и от внешних, начиная с эпохи, к которой относится дискурсант, ее культуры, менталитета, принадлежности к сословию, возрастной группе и т. д. Конечно, никто в полной мере не сможет проанализировать и даже просто определить, какие процессы происходят в сознании автора/читателя при создании или восприятии текста, поскольку «даже объявленное коммуникативное намерение может оказаться не соответствующим действительному намерению говорящего, не говоря уже о “приписывании значения” и т. д.» [3, с. 20]. Однако с помощью механизмов прагматики некоторые особенности можно выделить.
Как пишет Ю. М. Лотман, «для того чтобы акт художественной коммуникации вообще произошел, необходимо, чтобы код автора и код читателя образовывали пересекающиеся множества структурных элементов» [5, с. 37]. Но, в отличие от постулатов структурной школы, где идеальным результатом коммуникации является совершенное понимание текста автора читателем (чего в принципе быть не может) и где знак описывается как статичный объект, в более поздних исследованиях знаком называется знаковая операция, динамичный процесс, где больший упор делается на субъекта-дискурсанта (Ч. С. Пирс). И в данном случае вариативность в восприятии текста продуцентом и реципиентом не будет рассматриваться как нежелательный результат. Форматы данной вариативности, на наш взгляд, и следует рассматривать исходя из логики взаимодействия и взаимопересечения прагматических установок всех участников литературного процесса, литературно-художественного дискурса, в нашем случае – повествовательного.
Список литературы Прагматика повествовательного дискурса
- Арутюнова Н. Д. Дискурс//Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. C. 136-137.
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 416 с.
- Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. М.: Либроком, 2011. 288 с.
- Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 1972. 110 с.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
- Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике//Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 11-264.
- Миловидов В. А. Семиотика литературно-художественного дискурса: монография. М.: Буки Веди, 2016. 172 с.
- Пришвин М. М. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1986. 759 с.