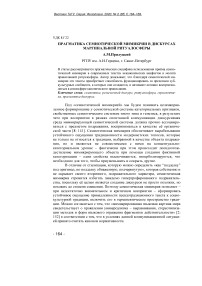Прагматика семиотической мимикрии в дискурсах маргинальной ритуалосферы
Автор: Прилуцкий Александр Михайлович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается прагматическая специфика использования приёма семиотической мимикрии в современных текстах неканонических акафистов и молитв православной ритуалосферы. Автор доказывает, что благодаря семиотической мимикрии эти тексты приобретают способность функционировать за пределами субкультурных сообществ, в которых они создаются, и начинают активно воспроизводиться в семиосфере канонического православия.
Семиотика, религиозный дискурс, ритуалосфера, герменевтика, прагматика дискурса
Короткий адрес: https://sciup.org/146281674
IDR: 146281674 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Прагматика семиотической мимикрии в дискурсах маргинальной ритуалосферы
Под «семиотической мимикрией» мы будем понимать целенаправленное формирование у семиотической системы категориальных признаков, свойственных семиотическим системам иного типа и генезиса, в результате чего при восприятии в рамках спонтанной коммуникации дискурсивная среда мимикрирующей семиотической системы должна прочно ассоциироваться с предметом подражания, восприниматься в качестве её органической части [8: 141]. Семиотическая мимикрия обеспечивает вырабатывание устойчивого ощущения традиционности модернистских топосов, которые не только не относятся к традиции, выбранной в качестве объекта подражания, но и являются не совместимыми с ними на концептуальнокатегориальном уровне – фактически при этом происходит псевдоотождествление мимикрирующего объекта при помощи создания фиктивной категоризации – одни свойства высвечиваются, гиперболизируются, что необходимо для того, чтобы приуменьшить и сокрыть другие.
В отличие от стилизации, которую можно определить «как “подделку” под оригинал, но подделку обнаженную, подчеркнутую», которая собственно и не скрывает своего вторичного, подражательного характера, семиотическая мимикрия стремится избегать заведомо гипертрофированного подражательства, поскольку её целью является создание дискурсов не просто похожих, но похожих до степени смешения. Поэтому семиотическая мимикрия позволяет – при недостаточно внимательном и критичном восприятии – сформировать устойчивое ощущение принадлежности псевдотрадиционного текста к социокультурной традиции, включить его в герменевтическое пространство традиции. Можно согласиться с тем, что «мимикрированная языковая картина мира свидетельствует о проявлении универсализма – выравнивания, стереотипизации методов и форм языкового отражения фрагментов действительности» [2: 152] в соответствии с тем, что в условиях данной коммуникационной ситуацией принято считать каноном нормативности.
Семиотическая мимикрия является процессом, во многом обусловленным наличием семиотического дрейфа. Под последним в современной семиотике принято понимать свойство элементов семиозиса в зависимости от условий функционирования изменять свои семиотические характеристики. Наиболее распространенной формой семиотического дрейфа является варьирование элементами семиозиса качеств знака и символа. Эта форма семиотического дрейфа подробно проанализирована проф. В.Ю. Лебедевым на примере элементов ритуалосферы [7], наиболее подверженных семиотической вариативности и мобильности. Однако семиотический дрейф не ограничен данным аспектом – не менее частотным является семиотический дрейф, полюсами которого являются семиотические свойства символа и метафоры (аллегории). Именно наличие семиотического дрейфа создает герменевтические условия, позволяющие использовать семиотическую мимикрию для решения задач идеологического характера. В данной статье рассматриваются семиотические аспекты апологетической стратегии, при помощи которой адепты радикально-маргинального православия (субкультуры царебожнического паттерна) обеспечивают придание составленным ими модернистским текстам ритуа-лосферы видимости традиционности, а, соответственно, и приемлемости для носителей установок православной традиционалистской культуры, с которыми они соотносят себя.
Термином «царебожничество» принято обозначать совокупность близкородственных православных субкультур, зачастую – фундаменталистского характера [3], которым в той или иной степени свойственны представления об особой са-кральности монархической власти, причем вопросам государственного устройства придается догматическое значение. Есть все основания полагать, что царебожниче-ские мифотеологемы восходят к фундаментальным положениям византийской политической идеологии о божественном характере императорской власти, которые были усвоены древнерусской культурой [5: 17] и стали основанием идеологии императорской России. Большинство царебожников верят в то, что смерть последнего русского императора имеет особое сотериологическое значение для русского народа (и государства), поэтому Николаю Второму ими присваивается исключительный агиологический статус «Царь-Искупитель» (это прослеживается, в том числе и на уровне используемых агионимов), среди адептов популярны такие концепты, как «соборная измена», «русская Голгофа», «соборный грех», «соборное покаяние», «соборный муж», «соборная смерть» народа, различные конспирологические и эсхатологические мифологемы. Расстрел Николая Второго семиотизируется в качестве символического указания на распятие Спасителя «подвиг же, Государев искупительный, видети должно, не яко в самодеянном и не в простом Христу подражании, а токмо в Искупительном Христа подвизе соучастие» [1], таким образом обстоятельства смерти Николая Второго интерпретируются в квази-новозаветном соте-риологическом контексте.
Неортодоксальность с точки зрения традиционного православного вероучения характера царебожничества вызывала неоднократную критику со стороны православных иерархов. При этом основная критика бывает направлена на царебожническую сотериологию, в основе которой находится представление об искупительном характере расстрела Николая Второго и членов его семьи. Представление о Царе-Искупителе, с точки зрения традиционного православного вероучения, находится в явном противоречии с базовыми христианскими христологическими догматами, согласно которым искупительным значением для всех времен и народов обладает исключительно голгофская смерть Спасителя Иисуса Христа, Который является единственным Искупителем и Спасителем, своими крестными страданиями и самой смертью искупившего грехи всего мира. С этой точки зрения, представления об особом Царе-Искупителе, искупившем политические грехи русского народа, нарушившего во время революции 1917 года присягу на верность дому Романовым, принесенную Земским Собором (соборная клятва 1613 года), умаляет значение голгофской смерти Спасителя и фактически обожествляет Николая Второго.
Кроме претензий теологического характера, существует и целый ряд замечаний, находящихся в области каноники. Наиболее существенные из них связаны с популярным среди царебожников т.н. чином всенародного покаяния, не предусмотренным православным литургическим обиходом, почитанием неканонических святых (не канонизированных Русской Православной Церковью Московского Патриархата или другими Православными Церквями, входящими в официальный диптих, - государственных и политических деятелей – Ивана Грозного, Павла Первого, И.В.Сталина, Г.Е.Распутина и др., их состав может варьировать в различных царебожнических группах), неканоничных икон, использованием неканоничных текстов ритуалосферы – прежде всего молитв и акафистов.
Наличие перечисленных претензий, как догматического, так и канонического характера, обретает особую остроту в связи с тем, что царебожниче-ские субкультуры позиционируют себя как церковные сообщества, строго соблюдающие каноны и догматы православной церкви, при этом они обличают своих оппонентов во всевозможных «грехах»: канонических нарушениях и ересях. Естественно, что быть самим обвиненными в неортодоксальности и модернизме для них чревато не только серьезными имиджевыми потерями, но и может привести к значительному оттоку адептов в различные конкурентные юрисдикции (от церквей «Мирового Православия» до старообрядческих и ка-токомбных юрисдикций включительно). В связи с этим вопросы, связанные с апологетикой специфических компонентов царебожнической субкультуры, уязвимых для догматической и канонической критики, для адпетов царебож-ничества обретают особую остроту, причем основными направлениями апологетики является: а) догматическое обоснование царебожнических концептов и б) придание текстам царебожнической ритуалосферы видимости традиционных православных текстов – обвинения в «модернизме» для царебожников не менее болезненно, чем в «ереси».
Контент-анализ современных текстов царебожнической ритуалосферы, прежде всего неканонических акафистов Ивану Грозному, Николая Второму, Г.Е. Распутину и текстов молитв «железному императору Иосифу» (т.е. И.В. Сталину) позволяет сделать вывод о том, что авторы этих текстов используют семиотическую мимикрию для того, чтобы при спонтанном восприятии православными верующими данные неканонические тексты воспринимались как вполне традиционные. Для этого из канонически безупречных и хорошо известных воцерковленным верующим литургических текстов заимствуются легко узнаваемые семиотически значимые элементы – преимущественно мета- 166 - форы и сравнения, реже – символы. Все они используются в качестве маркеров традиции: заимствованные из хорошо известных текстов, они используются для соотнесения новых, неканоничных молитв и акафистов с концептосферой традиционного и канонически безупречного православия: уже сам факт наличия их в новосоставленных неканонических текстах должно «успокоить» традиционалистов, сформировав у них ощущение каноничности.
В таковом качестве используются, например, метафоры субстанции, они являются достаточно традиционными и устойчивыми, быстро запоминаются и узнаются при устном восприятии, что позволяет их применять для достижения прагматического эффекта семиотической мимикрии, так, например, они часто употребляются в целях апологетики сомнительного с точки зрения традиционной православной агиологии культа Г.Е. Распутина. Мимикрия обеспечивает семиотическое соотнесение агиологического образа Распутина с безупречными образцами православной святости, поскольку используемые метафоры явно вторичны по отношению к метафорике эталонных текстов. Для этого используются такие метафоры, как «венец нетленный», «огненный ревнитель» (и «возгорешася духом»), «скрижаль плотиная2 сердца», «путы греха»; представленные в текстах неканонической ритуалосферы повсеместно, не будучи непосредственно заимствованием, подобные метафоры по своей семиотической структуре вполне традиционны, они соответствуют канонам агиологии и агиографии и поэтому приемлемы для ортодоксальных верующих.
В свете сказанного представляет интерес и наиболее популярная в ца-ребожнических сообществах форма агионима «Григорий Новый Чудотворец», которая является результатом целенаправленного придания почитанию Г.Е. Распутина «традиционности» и «каноничности»: для этого задействуются процессы стилистической и семиотической мимикрии структуры и компонентов агионима под православную традицию, в качестве оправдания подобного имятворчества обычно используется отсылка к историческому факту – изменению Г.Е. Распутиным своей фамилии. Сформированный таким образом агио-ним «Григорий Новый Чудотворец» в условиях спонтанной коммуникации должен произвести на верующего впечатление традиционного агионима, а значит и вполне каноничного – он хорошо соотносится с привычными именованиями чтимых святых – Григорием Чудотворцем, Григорием Великим, Симеоном Новым Богословом, Стефаном Новым, Николаем Новым, Василием Новым и др. Естественно, что агионим «святой Григорий Распутин» в прагматическом отношении является более уязвимым, поскольку порождает целый ряд вопросов о святости этого деятеля и каноничности соответствующего культа. В то время как мимикрирующий агионим не только позволяет эти вопросы минимизировать, но и превращается в механизм распространения культа за пределами царебожнических общин, поскольку молиться Григорию Новому Чудотворцу по «неканоническому» молитвослову может и верующий, не считающий Распутина святым, но просто не соотносящий агионим с его историческим прототипом. То, что звучит традиционно, привычно, часто не привлекает внимания верующего, в то время как ощутимое нарушение привычного семиотического кода вызывает настороженность и потенциальное неприя-
2 Так в оригинале. Это явно ошибка – должно быть «плотяная», от ‘плоть’
- 167 - тие, подозрение в «модернизме» и «ереси»: «как только увидите, что … вводится какое-то новшество или что-то происходит впервые, будьте настороже. Скорее всего, это будут недобрые перемены. А вы стойте на том, чему научены, того и держитесь, от всего нового уклоняйтесь» [6]. На этой особенности восприятия основывается семиотическая легитимация – элементы ритуалосфе-ры, которые независимо от их генезиса и семантики при спонтанном восприятии не воспринимающиеся как перверсивные, со временем сами превращаются в маркеры традиционности и развивают собственный потенциал легитимации модернистских дискурсов.
Более сложной оказывается апологетика таких инклюзивных царебожниче-ских концептов как «царь-искупитель», «соборный грех», «иконический подвиг», «русская Голгофа». Будучи модернистскими и еретическими по сути, они делают соответствующие тексты особенно уязвимыми для критики, поскольку предполагают крайне неортодоксальную трактовку базовых христианских сотериологиче-ских положений, носящих характер догматов веры.
Одним из наиболее интересных и сложных с точки зрения семиогер-меневтики является целенаправленное создание герменевтической амбивалентности концептов-символов при помощи активации процессов семиотического дрейфа. В результате возникает возможность в зависимости от контекста коммуникации интерпретировать семиотически значимые элементы семиосфе-ры как поэтические метафоры/аллегории или как теологические символы. В этом случае семиотическая мимикрия в качестве образцов для подражания использует поэтические тексты, в том числе поэзию фольклора, и шире – поэтический стиль, применительно к текстам ритуалосферы, прежде всего – молитвам и акафистам [4: 95–110], её маркеры могут создавать ощущение традиционности сомнительных литургических текстов (ещё один пример семиотической легитимации):
«О Святой Праведный Великий Иосифе, Богоданный Вождю Богоизбраннаго Народа Русскаго, Державу нашу из пепла возсоздавый и Русский Род всемирной славою венчавый; врази Руси мечем сокрушивый и победивый жидов многих в Отчизне нашей истребивый, предателей Бога, Царя и России праведной казни предавый народы Российския жезлом железным упасший» [10].
Кроме того, в условиях критичного восприятия всегда можно сомнительные с теологической точки зрения тезисы интерпретировать как поэтические метафоры, метонимии, гиперболы, не претендующие на выражение теологических понятий и таким образом избежать обвинений в неортодоксальности. В других условиях коммуникации (эзотерическая коммуникация единоверцев-посвященных) в задействовании механизмов семиотической мимикрии нет необходимости, и неортодоксальные концепты типа «царь-искупитель» или «соборный грех» реализуют всю полноту значений теологического символа [9].
Проведенное исследование позволят сделать вывод о том, что семиотическая мимикрия активно используется в дискурсах неканонической ритуа-лосферы для завышения валидности соответствующих текстов и, одновременно для снятия возможных герменевтических конфликтов. Широкое распро-- 168 - странение текстов неканонической ритуалосферы среди верующих канонических юрисдикций свидетельствует о том, что семиотическая мимикрия является результативным герменевтическим инструментом обеспечивающим устойчивость и продуктивность соответствующих дискурсов.
Список литературы Прагматика семиотической мимикрии в дискурсах маргинальной ритуалосферы
- Акафист святому царю-искупителю Николаю II (покаянный). [Электронный ресурс]. URL: http://akafist.narod.ru/N/Nikolayn_iskupitel.htm (дата обращения 09.02.2020).
- Буров А.А. Личностно-энергетический феномен языковой картины мира//Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2007. № 3-4. С. 145-154.
- Головушкин Д. А. Православный фундаментализм: возвращение к осмыслению // Философская мысль. 2016. № 1. С. 111-155.
- Давыдов И.П. Православный акафист русским святым (религиоведческий анализ). Благовещенск: библиотека журнала "Религиоведение", 2004. 216 с. С.95-110.
- Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. Миры повседневности XI-XIII вв. СПб: Изд-во Олега Абышко, 2017 с.592. С.17.
- Еще один мощнейший удар экуменистов по русской церкви.. Синод РПЦ изменил правила крещения и поминовения. [Электронный ресурс]. URL: https://3rm.info/main/78386-esche-odin-udar-jekumenistov-po-russkoj-cerkvi-sinod-rpc-izmenil-pravila-lkeschenija-i-pominovenija.html#sel=7: 1,8:7(дата обращения 09.02.2020).
- Лебедев В.Ю. Религиозный ритуал западного христианства: культура, традиция, семиотика (XVI-XX вв.). Тверь: ГЕРС, 2008. 328 с.
- Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М.Семиотическая мимикрия и функционирование религиозных знаковых систем: постановка проблемы//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2018. № 1. С. 139-147.
- Прилуцкий А.М. Семиотика новейшего агиологического мифа и формирование неканонических культов//Известия Иркутского государственного университета. Серия: политология, религиоведение. 2018. Т. 23. С. 102-109.
- Тропарь и кондак Святому Богоданному Вождю Русского Народа, "стальному императору" Иосифу Великому (Сталину) [Электронный ресурс]. / Покаяние URL: http://www.pokaianie.ru/artide/stalin/read/10566 (дата обращения 09.02.2020)