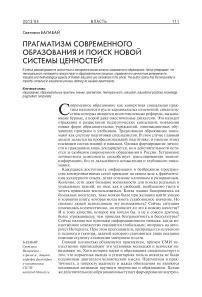Прагматизм современного образования и поиск новой системы ценностей
Автор: Балабай Светлана Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 4, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются ценностные и методологические аспекты современного образования. Автор утверждает, что темпоральность имплицитно присутствует в образовательном процессе, определяя его ценностные детерминанты.
Образование, образовательные практики, знание, прагматизм, темпоральность
Короткий адрес: https://sciup.org/170166897
IDR: 170166897
Текст научной статьи Прагматизм современного образования и поиск новой системы ценностей
С овременное образование как конкретная социальная практика находится в русле кардинальных изменений, свидетель -ством которых являются многочисленные реформы, вызыва-ющие бурные, а порой даже ожесточенные дискуссии. Это находит отражение в разрастании педагогических концепций, появлении новых форм образовательных учреждений, инновационных обу чающих программ и учебников. Традиционно образование пони -мают как систему подготовки специалистов. В этом случае главный акцент делается на профессиональной подготовке, и именно этому посвящен состав знаний и навыков. Однако формирование лично -сти и гражданина лишь декларируется, но в действительности оста -ется за скобками современного образования в России. Устранение личностного компонента способствует транслированию знания информации, без ее дальнейшего осмысления и глубинного пони мания.
Кажущаяся доступность информации в безбрежном простран -стве коммуникативных сетей приводит на самом деле к фрагмента ции культурного опыта, делая сознание клиповым и разорванным. Конечно, сети дают большие возможности для поиска реальных и уникальных знаний, но ими, как и свободой, необходимо уметь и хотеть правильно воспользоваться. Когда знание базировалось на бумажных носителях, тоже можно было при желании найти умную и хорошую книгу, которая могла иметь судьбоносное значение. Но сколько людей использовало эту возможность? Сейчас ситуация изменилась количественно, но приведет ли это к новому качеству? И к тому качеству, которое мы хотели бы, а не к совсем другому, более угрожающему, чем прошлая безграмотность и бескультурье? Сейчас налицо все признаки информационного натиска, когда во инственное невежество становится глобальным, опираясь на авто ритет Интернета. При этом преподаватель превращается из ученого и педагога в тьютора, задачей которого становиться лишь оказание помощи студенту в освоении материала из сети.
Главной ценностью объявляется прагматизм, причем СМИ ис-кусственно приписывают эти установки молодежи и всячески на вязывают их. Хотя история науки и образования свидетельствует о том, что корыстная выгода и утилитарная польза никогда не были подлинным двигателем человеческой мысли. Прагматизм и прак тичность, а попросту жадность и жажда обогащения не являются основными мотивами научного творчества и образования. Целью же действительного образования выступает формирование внутрен- ней мотивации на основе надличностных, т.е. выходящих за пределы времени жизни данного человека, можно сказать «вечных», ценностей.
Так, Й. Хейзинга отмечает: «Средний житель в странах Запада сегодня информирован обо всем понемногу, и он реже и реже оказывается в условиях, где от него требуется собственное мышление и самопроявление»1. По мысли философа, такое пестрое и в то же время поверхностное знание, такой духовный горизонт, слишком широкий для глаз, не вооруженных критической оптикой, должны неминуемо привести к упадку способности суждения2. Собственно, тенденция к полной формализации охватывает весь человеческий опыт, осмысленный на данном этапе через призму всеобщей компьютеризации. В такой ситуации человек вынужден становиться прагматичным, расчетливым, но менее эмоциональным и нравственным, мало способным к творчеству, не умеющим и не желающим оценить и создать прекрасное. Можно утверждать, что основной тенденцией в образовании становится погоня за знаниями, информацией, за материальными ценностями, которая диссонирует с присущей человеку потребностью в понимании и гармоничном развитии.
Благодаря информационным технологиям происходит эффективное отчуждение современного человека от целевого проектного действия. И как следствие – отказ информационного общества в целом от всех важнейших принципов, обеспечивающих саму возможность такого действия, – от целеполагания, самоопределения, замысливания и т.д3. А эталонное, стандартизированное знание, которое необходимо осваивается в больших объемах школьниками и студентами, является внешним, формальным, стандартизированным. Такое знание не может способствовать развитию навыков самостоятельного мышления и формированию мировоззренческой шкалы ценностей. В этой ситуации формирование мировоззрения происходит стихийно, под влиянием средств массовой коммуникации и идео- логического прессинга, вызывая интерес к внешней стороне приобретения знания, а именно к навыкам практической деятельности, столь необходимым в информационном обществе.
Итак, рост информационно-телекоммуникационных сетей и быстрая интернетизация ведут к изменениями в проблемном поле образовательного знания. Расширение информационного пространства и развитие социальных сетей способствуют тому, что проблема получения знания принципиально изменяется, превращаясь в потребление информации. В современную эпоху вряд ли возможно игнорировать особенности получения информации через Интернет. Наоборот, необходимо признать указанные особенности существования современного общества знания в качестве онтологических и трансформировать процесс образования. Вместе с тем возникают вопросы следующего характера: «Отвечают ли технологии и алгоритмы информационнокоммуникативных структур стратегии становления творческого мышления и рефлексивно-критического самосознания личности? Каким именно типам личностного развития отвечают принципы компьютерной коммуникации?» И самый, на наш взгляд, главный вопрос: «Какого рода трансформации претерпевают ценности традиционных знаний и универсалий общечеловеческой гуманистической культуры в век информационных технологий?»
В России даже появился термин, отражающий современные тенденции в области культуры и формирования личности: «образованец» (или «образованщина») – человек, получивший высшее образование, но лишенный духовности, подлинной интеллигентности, четкой системы нравственных ценностей. В современном лексиконе появилась и новая мифологема – «образовательные услуги». В этом случае образование отождествляется с процессом потребления знаний, навыков и умений, необходимых для профессиональной деятельности. Напряжение, терпение, поиски истины как необходимые этапы формирования «интеллектуального наслаждения», которое, по Аристотелю, является непреходящим и отличает господина от раба, заменяются процедурой усвоения «положительных социальных навыков». Так, например, в публичных школах США можно получить зачет, играя весь день в баскетбол, если математика не дается (в частных школах все по-старому). Это школы «социального сдерживания» (точнее, классового), когда в условиях массового спроса на ценность общедоступного образования выхолащивается его действительное содержание. Нечто подобное заложено и в так называемом Болонском процессе, фактически предопределяющем разделение на элитарное и массовое образование.
В советское время, несмотря на профанирующее влияние лозунга о политехнической школе, образование (особенно высшее) сохраняло свой сакральный статус. Преподавание марксизма с его постулатом объективности законов природы и общества, на что так яростно нападал К. Поппер, уравновешивало диалектическую антиномию светского и священного. Даже в период деидеологизации сакральное сохраняло свое присутствие в виде направлений реформы образования во времена перестройки – фундаментали-зации, гуманизации и гуманитаризации. Последовавший затем отказ от этих ценностей привел к трансформации сакрального в образовании в профанируемые псевдоценности технократизма, прагматизма и глобализма, которые не соответствуют исторической традиции образования. Наступило господство конструктивизма, под флагом которого расцвел солипсизм и просто воинствующее невежество. В процессе осквернения сакрального симулякр российского образования превратился в фальсификат .
Следовательно, трансформация ценностей привела к деформации миссии образования – как гармонизации деятельности человека и общества, так и процесса развития самого человека. Классический идеал образования предполагал изменение самого человека в процессе овладения новым знанием, тогда как в условиях информационного бума современным идеалом знания стало накопление знания, а целью познания человека – компьютеризированный образ мира, в котором нет места человеку. Именно поэтому М. Хайдеггер считал столь востребованной в современном обществе древнегреческую пайдейю. С точки зрения Хайдеггера, совпадение понятий «пайдейя» и «образование» является не случайным, поскольку образование еще Платоном рассматривалось как развертывающее формирование и как процесс, который формирует нечто новое в соизмерении с определенным образцом. Противоположена пайдейе апайдевсия (необразованность), которая не предусматривает развертывания «основополагающей установки и не дает определенного прообраза»1. Следовательно, назначение образования – дать человеку смысл, форму и содержание всего сущего, т.е. выявить ценностные характеристики знания в деятельности образования. В этой связи возникает проблема поиска новой системы ценностных установок, позволяющих преодолеть кризис современного образования.
М. Кастельс отмечал, что доминирующей тенденцией в современном обществе является «исторический реванш пространства, структурирующего темпоральность»2. Это историческое пространство названо социологом «пространством потоков», а именно потоков капитала, информации, технологии, организационного взаимодействия, изображений, звуков и символов. Причем потоки – это не просто один из элементов социальной организации, они являются выражением процессов, доминирующих в экономической, политической и символической жизни современного общества3. Фактически процессы, или, в терминологии Кастельса, потоки, происходящие в названных выше сферах, формируют новую пространственную форму, которая может быть названа виртуальным пространством. Виртуальное пространство растворяет время, разупо-рядочивает последовательность событий и делает их одновременными, превращая жизнь общества в «вечную эфемерность». В таких условиях знание образовательных практик превращается в потоки информации, стихийно функционирующие и превращающиеся в своеобразный фрагментарно-интеллектуальный хлам.
Вместе с тем людям присуща экзистенция «как форма существования среди всего сущего». Эта мысль М. Хайдеггера весьма значима в плане возможностей приобретения сущностного, важного для формирования мировоззрения и про- фессиональной идентичности знания. М. Хайдеггер утверждал, что «корреляция мира и воли бытия» возможна лишь в аспекте заботы и значимости1. Понятие «значимость» определяет отношение необходимости приобретения знания, что в свою очередь связано с тем, какие ценности востребованы в обществе. Еще Сократ утверждал, что нельзя научить, но можно научиться, если сам человек стремится к такому знанию. М. Хайдеггер, по сути, продолжая мысль античного философа, отмечал, что «реальность, действительность можно прояснить лишь тогда, когда бытие, реальное присутствует, обнаруживает себя»2, причем «самооб-наружение мира следует понимать как присутствие и настоящее»3. Таким образом, Хайдеггер постулирует взаимосвязь ценностных оснований и темпоральных характеристик социальной реальности, определяющих цели и мотивы поведения человека.
В системе исходных представлений об образовании, характерных для античной философии, можно обнаружить рациональные основания возможного духовного и нравственного развития, основанного на идее истинного знания, т.е. знания, находящегося в согласии с бытием. Очевидно, что в современной культуре происходит разрыв знания и бытия. Вследствие этого знание не дает понимания, и понимание не увеличивается благодаря росту знания. Понимание зависит от отношения знания к бытию, это равнодействующая знания и бытия. Понимание – это бытийственная сторона содержания знания, предопределяющая осмысление человеком своего места в мире4. В силу утраты представления о времени как «горизонте бытия»5 процесс понимания в образовательных практиках искажается, превращаясь в комментарии или формальные клише, необходимые для запоминания, что превращает учебный процесс в схоластическое начетничество. Следовательно, время становится длящимся духовным пространством, т.е. онтологической характеристикой культуры, в которой моменты длительности и дления прошлого и будущего выступают взаимодополнительными гранями становящегося бытия настояще го. Иначе говоря, структура времени представляет собой не только сочетание абстрактных модусов – прошлого, настоящего и будущего, но и совокупность времен, взятых как срезы живого организма культуры. При этом темпоральность имплицитно присутствует в образовательном процессе, предопределяя и определяя его ценностные детерминанты.
Подводя итог, подчеркнем, что образование есть непрекращающийся процесс функционирования сознания и развития интеллекта человека. Можно сказать, что образование – это процесс формирования общественного и профессионального сознания, процесс развития культуры и цивилизации. Миссия образования – прогресс общественного развития во всех направлениях, гармонизация деятельности человека и общества в гуманитарном, научно-техническом, экологическом, экономическом направлениях развития. Однако в современных условиях общественного развития эти аксиомы оказываются лишь идеалом, весьма значимым, но вряд ли достижимым. Причиной тому явиляется потеря ценностной ориентации, во многом связанная с информационнотехнологическим развитием. Следствием этого оказывается кризис компетентности и профессионализма личности. Трансформация образования в технократизм, прагматизм, глобализм и другие подходы не соответствуют исторической традиции образования. В этой связи формирование системы ценностных установок, транслирующей «живое», «становящееся», темпорально-прогностическое знание, ориентированное на «человеческое» в человеке, будет способствовать как развитию человеческой субъектности, целостности, ответственности, так и преодолению разрыва между образованием и культурой.