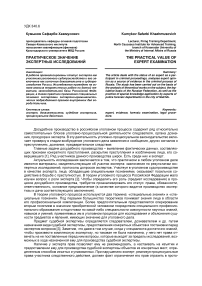Практическое значение экспертных исследований
Автор: Кумыков Сафарби Хажмусович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2016 года.
Бесплатный доступ
В работе проанализированы статус эксперта как участника уголовного судопроизводства и его заключение как источник доказательств в судопроизводстве России. Исследование проведено на основе анализа теоретических работ по данной тематике, законодательной базы Российской Федерации, а также практики применения специальных познаний экспертами экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел города Нальчика.
Эксперт, доказательства, судебная экспертиза, процессуальное действие
Короткий адрес: https://sciup.org/14931849
IDR: 14931849 | УДК: 340.6
Текст научной статьи Практическое значение экспертных исследований
Досудебное производство в российском уголовном процессе содержит ряд относительно самостоятельных блоков уголовно-процессуальной деятельности следователя, органа дознания, прокурора и эксперта. В эту деятельность уголовно-процессуальное законодательство включает проверку в стадии возбуждения уголовного дела заявления и сообщения, других сигналов о преступлениях, дознание, предварительное следствие.
Главные задачи досудебного производства – выявление фактических данных, составляющих признаки конкретного преступления, раскрытие преступления и изобличение лица, его совершившего [1]. Ряд участников данного производства широк. Есть среди них и эксперт.
Актуальность исследования заключается в том, что практически в любом уголовном деле имеются материалы, свидетельствующие об участии эксперта: заключения по результатам экспертных исследований, протоколы допросов экспертов. Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве эксперта, лица, обладающие специальными познаниями, оказывают посильное содействие в борьбе с преступностью. В теории уголовного процесса Российской Федерации мало изучен вопрос о роли эксперта [2]. Чтобы определить его роль (предмет исследования) в процессе досудебного производства, требуется проанализировать его статус: права, обязанности, ответственность, основное предназначение (в качестве которого видится производство экспертизы и дача соответствующего заключения).
В теории уголовного процесса используются два термина: «специальные знания» и «специальные познания». Под первыми большинство теоретиков понимает знания лица в области его профессиональной компетенции. Более предпочтительным представляется оперирование вторым понятием в значении приобретенной человеком посредством специального профессионального образования и подготовки по какой-либо специальности совокупности научных знаний, навыков и умений, применяемых им в уголовном процессе для исследования и объяснения сущности предметов и явлений, имеющих значение для уголовного дела.
Предмет судебной экспертизы определяется следователем, дознавателем и др. путем назначения вида судебной экспертизы, предоставления конкретных объектов и постановки перед экспертом вопросов [3]. Заметим, что даже в том случае, когда у специалиста достаточно знаний, чтобы произвести комплексную экспертизу, но таковая не была назначена, у него нет права отвечать на не поставленные перед ним вопросы, которые выходят за пределы исследований, возможных в ходе назначенной ему для производства судебной экспертизы.
Наличие у эксперта прав позволяет ему не рекомендовать, а настаивать на изъятии и предоставлении ему для производства судебной экспертизы объектов из конкретных мест, определенным способом изъятых и упакованных. При нарушениях эксперт, реализуя процессуальные права участника следственного действия, должен факт ограничения его прав отразить в прото- коле следственного действия в виде аргументированных замечаний по ходу производства следственного действия, а затем обжаловать действия лица, осуществлявшего следственное действие, в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ. Изучение следственной и судебной практики свидетельствует о том, что эксперт вправе подвергать исследованию и давать заключение только на основе объектов, которые ему были даны.
Рассмотрение проблемы информации в области криминалистики показывает ее тесную связь с процессами отражения и доказывания [4]. Ориентировочная деятельность в широком смысле представлена выдвижением и разработкой следственных версий. К ориентирующей информации в узком смысле относятся те сведения, которыми оперирует следователь в конкретный момент следственного действия. Эти данные играют роль указателей линии поведения следователя, сигнализируют об изменениях в обстановке, способствующих достижению тактических целей либо препятствующих ему. Одно из основных отличий ориентирующей информации от доказательственной состоит в том, что в первой связь между признаком (ориентиром) и обозначенным предметом не всегда и не в полной мере осознается.
Следователи обычно ссылаются на свое «чутье», следственную интуицию. Заметим, что немедленное соотнесение определенной ситуации и тактического приема происходит, очевидно, вне сферы их сознания, то есть дознаватели пользуются при классификации ситуации показателями, которые не могут сформулировать. В случаях, когда воспринимаемые условия приобретают существенное значение, возникает ориентировочная задача, общая ориентировочная активность угасает и замедляется локальной активностью, связанной с поступившим сообщением [5]. Начинается особая, полностью осознаваемая и целенаправленная ориентировочная деятельность, приобретающая исследовательский характер. Она осуществляется методами, основанными на наблюдении в сочетании с поисковыми действиями. При этом данная деятельность включает также возможность своеобразного предвидения какой-то ситуации в целом и характера предстоящего взаимодействия с ней лишь по косвенным признакам-ориентирам. Мыслительная ориентировка в решении задач позволяет следователю сформировать умение планировать мероприятия, осознавать цель и выбирать способы действия.
При расследовании преступления для следователя важны следующие этапы:
– ориентировка в ситуации и диагностика ее отдельных элементов,
– определение путей использования полученной в ходе расследования ориентирующей информации.
Подвергая анализу сложившуюся ситуацию и совокупность информации о расследуемом преступлении, следователь тем самым определяет вероятную линию поведения в данных условиях.
Итак, эксперт – лицо, располагающее необходимыми по делу специальными познаниями, которому в предусмотренном УПК РФ порядке поручено производство судебной экспертизы. Данное лицо должно обладать специальными познаниями [6]. Когда речь идет о государственном судебном эксперте – аттестованном работнике государственного судебно-экспертного учреждения органа внутренних дел, чьей должностной обязанностью является производство судебной экспертизы, – не возникает вопроса о том, обладает ли он специальными знаниями. Должности экспертов в государственных судебно-экспертных организациях могут занимать только лица, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие последующую подготовку по конкретной специальности [7]. Эксперт обладает специальными познаниями в науке, технике, искусстве и (или) ремесле, что подтверждает специальное свидетельство.
Экспертом лицо становится, только если судебная экспертиза назначена в порядке, установленном УПК РФ. Назначение экспертизы, после которой на специалиста будут распространяться правила, установленные ст. 57 УПК РФ, – это деятельность, урегулированная ст. 195, 196, 283 УПК РФ. Если экспертиза назначена в порядке, предусмотренном иным нормативно-правовым актом (пусть даже и законом), она не является судебной или уголовно-процессуальной, соответственно, лицо, которое осуществляет данное действие, не наделяется правами, закрепленными в ст. 57 УПК РФ.
Анализ уголовно-процессуального законодательства России, касающегося такого участника уголовного процесса, как эксперт (экспертно-криминалистического подразделения органа внутренних дел), позволяет сделать вывод, что ему отведено одно из главных мест в уголовном процессе. Об этом свидетельствует его правовой статус: права, обязанности, ответственность, значение его заключения как доказательства.
Ссылки:
-
1. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений : монография. М., 2000.
-
2. Ильина А.М. Обязательное использование специальных познаний в уголовном процессе : дис.... канд. юрид. наук.
-
3. Лившиц Е.М., Белкин P.C. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 163.
-
4. Ордоков М.Х. Проблемы процессуального оформления осмотра места происшествия // Теория и практика общественного развития. 2015. № 16. С. 114–115.
-
5. Кумыков С.Х. К вопросу о применении результатов оперативно-разыскного мероприятия в процессе доказывания по уголовным делам // Там же. № 4. С. 91–92.
-
6. Нагоева М.А. Участие эксперта-криминалиста в осмотре места происшествия, связанного с применением огнестрельного оружия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 10, ч. 3. С. 139–141.
-
7. Нагоева М.А. Некоторые аспекты производства отдельных следственных действий при расследовании терроризма // Теория и практика общественного развития. 2014. № 10. С. 168–170.
Екатеринбург, 2005. 303 с.
Список литературы Практическое значение экспертных исследований
- Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: монография. М., 2000.
- Ильина А.М. Обязательное использование специальных познаний в уголовном процессе: дис.. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 303 с.
- Лившиц Е.М., Белкин P.C. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 163.
- Ордоков М.Х. Проблемы процессуального оформления осмотра места происшествия//Теория и практика общественного развития. 2015. № 16. С. 114-115.
- Кумыков С.Х. К вопросу о применении результатов оперативно-разыскного мероприятия в процессе доказывания по уголовным делам//Там же. № 4. С. 91-92.
- Нагоева М.А. Участие эксперта-криминалиста в осмотре места происшествия, связанного с применением огнестрельного оружия//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 10, ч. 3. С. 139-141.
- Нагоева М.А. Некоторые аспекты производства отдельных следственных действий при расследовании терроризма//Теория и практика общественного развития. 2014. № 10. С. 168-170.