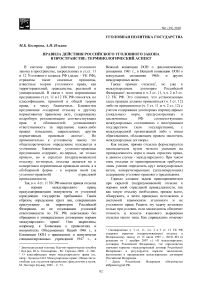Правила действия российского уголовного закона в пространстве: терминологический аспект
Автор: Кострова Марина Борисовна, Ильина Александра Игоревна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовная политика государства
Статья в выпуске: 1 (19), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются правша действия Уголовного кодекса Российской Федерации в пространстве с точки зрения соответствия требованиям, предъявляемым к языку уголовного закона: точности, ясности, согласованности с терминологией иных отраслей российского права и международного права. В обосновании вывода о путях устранения имеющихся недостатков законодательной регламентации данных правил используется межотраслевой и сравнительно-правовой анализ.
Уголовный закон; язык уголовного закона, действие уголовного закона в пространстве, уголовное право зарубежных стран
Короткий адрес: https://sciup.org/142233545
IDR: 142233545
Текст научной статьи Правила действия российского уголовного закона в пространстве: терминологический аспект
В системе правил действия уголовного закона в пространстве, закрепленных в ст.ст. 11 и 12 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ), отражены такие основные принципы, известные теории уголовного права, как территориальный, гражданства, реальный и универсальный. В связи с этим нормативные предписания ст.ст. 11 и 12 УК РФ относятся, по классификации, принятой в общей теории права, к числу бланкетных. Бланкетное предписание «содержит отсылку к другому нормативному правовому акту, содержащему подробную регламентацию соответствующих прав и обязанностей; устанавливает ответственность за нарушение каких-либо правил поведения, закрепленных другим нормативным правовым актом»1. Но применительно к уголовному закону это общетеоретическое определение нуждается в уточнении: бланкетные уголовно-правовые предписания содержат, во-первых, не только прямую, но и скрытую (подразумеваемую) отсылку; во-вторых, отсылка делается не к конкретным нормативным правовым актам, а в обобщенной форме - к нормам иной (не уголовно-правовой) отраслевой принадлежности.
Так, в ч. 4 ст. 11 УК РФ имеется прямая отсылка к нормам международного права, предусматривающим иммунитеты от уголовной юрисдикции государства пребывания. Таким образом, определение круга лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации, но не подлежащих уголовной ответственности по УК РФ, невозможно без обращения к универсальным договорным нормам международного права2. Они закреплены, например, в Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г., в Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 г., в
Венской конвенции ООН о дипломатических сношениях 1961 г., в Венской конвенции ООН о консульских сношениях 1963г. и других международных актах.
Также прямая отсылка3, но уже к международным договорам Российской Федерации4, включена в ч. 3 ст. 11, ч.ч. 2 и 3 ст. 12 УК РФ. Это означает, что установленные здесь правила должны применяться (ч. 3 ст. 12) либо не применяются (ч. 3 ст. 11 и ч. 2 ст. 12) с учетом содержания договорных партикулярных (локальных) норм, предусмотренных в заключенных РФ соответствующих международных соглашениях с иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры.
Как видим, прямая отсылка формулируется законодателем путем четкого указания на принадлежность норм к иным отраслям права, в данном случае - международного. При таком типе отсылки от правоприменителя требуется лишь умение определить круг международных актов, конкретизирующих (детализирующих) содержание уголовно-правового предписания.
Гораздо сложнее задача правоприменителя при скрытой (подразумеваемой) отсылке к нормам иной отраслевой принадлежности, так как такую отсылку необходимо, прежде всего, обнаружить, а затем правильно истолковать в системной взаимосвязи уголовного и не уголовного права. Решить эту задачу возможно только при условии, если законодатель обеспечит точность и ясность языкового выражения отсылки такого типа. Как справедливо отмечает
Н.И. Пикуров, язык уголовного закона является одним из детерминантов образования системных связей правовых предписаний различных отраслей права1.
Специфика языкового выражения скрытой (подразумеваемой) отсылки заключается в том, что она не имеет какого-либо особого обозначения, о ее наличии свидетельствует лишь присутствие в тексте уголовного закона термина2 (терминов) иной отраслевой принадлежности, то есть слова или словосочетания, обозначающего понятие другой отрасли права. Такие термины используются в формулировках бланкетных уголовно-правовых предписаний, в связи с чем уместно, вслед за другими авторами3, именовать их бланкетными.
Применительно к правилам действия уголовного закона в пространстве, закрепленным в ст.ст. 11 и 12 УК РФ, бланкетными являются термины, обозначающие понятия международного права, а также целого ряда отраслей (подотраслей) российского права4 - конституционного, водного, воздушного, военного и уголовнопроцессуального. В частности, следующие: «территория РФ» (заголовок и ч.ч. 1, 2, 4 ст. 11); «территориальное море РФ» (ч. 2 ст. 11); «воздушное пространство РФ» (ч. 2 ст. 11); «континентальный шельф РФ» (ч. 2 ст. 11); «исключительная экономическая зона РФ» (ч. 2 ст. 11); «международный договор РФ» (ч. 3 ст. 11, ч.ч. 2, 3 ст. 12); «судно, приписанное к порту РФ» (ч. 3 ст. 11); «открытое водное пространство» (ч. 3 ст. 11); «открытое воздушное пространство» (ч. 3 ст. 11); «военный корабль РФ» (ч. 3 ст. 11); «военное воздушное судно РФ» (ч.3 ст.11); «гражданин РФ» (ч.ч. 1, 3 ст. 12); «иностранный гражданин» (ч. 3 ст. 12); «лицо без гражданства, постоянно проживающее в РФ» (ч.ч. 1, 3 ст. 12); «лицо без гражданства, не проживающее постоянно в РФ»
(ч. 3 ст. 12); «военнослужащий» (ч. 2 ст. 12); «воинская часть РФ» (ч.2 ст.12); «дислокация за пределами РФ» (ч. 2 ст. 12); «решение суда» (ч. 1 ст. 12); «осуждение» (ч. 3 ст. 12).
Но, как думается, не вся приведенная бланкетная терминология статей 11 и 12 УК РФ соответствует требованиям точности и ясности, так как в их тексте обнаруживается ряд языковых дефектов, к числу которых относятся: неточность терминологического обозначения, недостаточность терминологического обозначения, межотраслевая несогласованность значения термина, неясность содержания термина.
Первый дефект - неточность терминологического обозначения - проявляется в употреблении в уголовном законе терминов, похожих на термины иной отраслевой принадлежности, но не являющихся их словесными аналогами. Позволим себе именовать их «псевдобланкетными» потому, что они создают видимость зависимости содержания уголовно-правового предписания от нормативных правовых предписаний иной отраслевой принадлежности при фактическом отсутствии такой зависимости.
Так, в ч. 3 ст. 11 УК РФ используется превдобланкетный термин «открытое водное пространство». Имеющееся здесь уточнение о нахождении открытого водного пространства вне пределов РФ обязывает законодателя использовать ту терминологию, которая принята в международном праве. Но оно, в частности Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. (далее -конвенция по морскому праву), оперирует другим термином -«открытое море», содержание которого раскрывается в ст. 86, а 87 устанавливает свободу открытого моря, которая включает свободу судоходства и свободу полетов. Свобода полетов в данном контексте означает открытость воздушного пространства над открытым морем, что является одной из составляющих содержания другого термина, используемого в ч. 3 ст. 11 УК РФ, -«открытое воздушное пространство» (другой его составляющей, как следует из ст.ст. 58 и 87 Конвенции по морскому праву, является воздушное пространство над исключительной экономической зоной, которое также свободно и открыто).
Следует подчеркнуть, что недопустимость использования в уголовном законе псевдобланкетных терминов обусловливается не столько соображениями лингвистической корректности, сколько собственно юридическими потребностями. Дело в том, что значение бланкетных терминов уголовного закона раскрывается в корреспондирующих отраслях права, в результате чего содержание каждого из

бланкетных уголовно-правовых предписаний в целом складывается из разных по своей отраслевой природе компонентов – уголовно-правовых и других отраслей (подотраслей) права. Раскрыть же значение псевдобланкетного термина уголовного закона невозможно, так как он, не имея языкового выражения, полностью соответствующего принятому в корреспондирующих отраслях, в силу формальной определенности права не является словом или словосочетанием, обозначающим понятие другой отрасли права1. Поэтому представляется необходимым привести правило, предусмотренное ч. 3 ст. 11 УК РФ, в соответствие с Конвенцией по морскому праву, а именно заменить термин «открытое водное пространство» на термин «открытое море».
В тексте ч. 3 ст. 11 УК РФ, кроме того, наблюдается еще и второй языковой дефект -недостаточность терминологического обозначения. В соответствии с правилом, закрепленным в ч. 3 ст. 11, лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту РФ, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Использованный здесь термин «судно, приписанное к порту РФ», является многословным, такие термины употребляются
-
1 Еще одно проявление псевдобланкетности имело место в ч. 2 ст. 11 УК РФ в ее первоначальной редакции 1996 г., где использовался термин «территориальные воды», не известный ни международному праву, ни базовому неуголовному законодательству. Конвенция ООН по морскому праву, Конституция РФ, Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», Водный кодекс РФ 1995 г. (ст.ст. 8, 15, 16), действовавший в то время, оперировали исключительно термином «территориальное море». И только в 2007 году псевдобланкетный термин «территориальные воды РФ» в
для выражения сложных понятий, каждому из которых соответствует свой термин. В рассматриваемом случае сложное понятие может быть выражено сочетанием терминов «судно» + «приписка» + «порт РФ». При этом в базовых отраслях российского законодательства раскрывается содержание лишь двух терминов - «судно» (ст. 32 Воздушного кодекса РФ, абз. 4 ст. 3 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 2001 г.) и «порт РФ» (абз. 11 ст. 3 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 2001 г., ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ч. 1 ст. 9 Кодекса торгового мореплавания РФ 1999 г.).
Содержание же термина «приписка» (к порту) в российском праве не раскрывается, обозначаемое им понятие используется только применительно к учету и регистрации судов2 (см., например, п.1 ч. 5 ст. 83 Налогового кодекса РФ). То есть в позитивном праве этому термину придается значение «место (порт) приписки». Однако в контексте ч. 3 ст. 11 УК РФ ему придается другой смысл. Путем использования составного термина «приписка к порту РФ» законодатель определяет уголовноюрисдикционные полномочия РФ при нахождении судна в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов РФ. Но такого терминологического обозначения недостаточно, так как в международном праве принята иная терминология.
Согласно ст. 92 Конвенции по морскому праву возможность осуществления юрисдикции государства на борту гражданского водного судна ставится в зависимость не от порта его приписки, а от флага, под которым оно плавает. Именно по флагу, под которым судно имеет право плавать, определяется его национальность (ст. 91). В отношении преступлений, совершенных на борту воздушных судов, Конвенцией ООН о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 г. (далее - Токийская Конвенция) установлено, что юрисдикционные
-
2 Для морских судов, к примеру, портом приписки является порт, в котором судно зарегистрировано в государственном судовом реестре или судовой книге порта.

полномочия вправе осуществлять государство регистрации воздушного судна (ст. 3).
В связи с этим представляется необходимым приведение терминологии ч. 3 ст. 11 УК РФ в соответствие с Конвенцией по морскому праву и Токийской Конвенцией. Удачная языковая конструкция, пригодная для заимствования в УК РФ, имеется, например, в Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (п. 2 ст. 6): «суда…, плавающие под Государственным флагом РФ и приписанные к портам РФ». Или в УПК РФ: «воздушное, морское или речном судно, …под флагом РФ, если указанное судно приписано к порту РФ» (ч. 2 ст. 2).
Третий языковой дефект - межотраслевая несогласованность значения термина, по нашему мнению, имеет место в тексте ч. 2 ст. 11 УК РФ.
Так, в ч. 1 ст. 11 УК РФ закреплено правило действия российского УК при совершении преступления на территории РФ. А в ч. 2 ст. 11 УК РФ (первое предложение) выделено особое правило в отношении преступлений, совершенных в пределах территориального моря или воздушного пространства РФ, которые «признаются совершенными на территории РФ». Однако в этой части значение термина «территория РФ» не согласовано с его значением в базовом неуголовном законодательстве. Согласно ч. 1 ст. 67 Конституции РФ «территория РФ включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними». Другие предписания конституционного, водного и воздушного законодательства (ст.1, п. «б» ч. 2 ст. 5 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации», ст.1 Воздушного кодекса РФ, ст. 2 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации») также относят территориальное море и воздушное пространство РФ к элементам территории РФ.
То есть преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства РФ, - это тоже преступления, совершенные на территории РФ, в связи с чем на них в полной мере распространяется общее правило действия уголовного закона в пространстве, установленное ч. 1 ст. 11 УК РФ, и нет никакой необходимости в особом правиле, закрепленном в первом предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ.
Еще одно проявление межотраслевой рассогласованности бланкетной терминологии уголовного закона, но уже с международным правом, наблюдается во втором предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ. Здесь сформулировано правило о распространении действия российского УК на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Потребность в таком правиле существует потому, что указанные территории относятся к категории территорий со смешанным правовым режимом, они не входят в государственную территорию России, находясь за пределами ее территориального моря.
Как видим, для обозначения данных территорий используются термины «континентальный шельф РФ» и «исключительная экономическая зона РФ». Раскрывается содержание первого в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», содержание второго - в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». Подчеркнем, что оба этих термина не являются собственными терминами российского законодательства, их основу составляют термины международного права. А именно: «континентальный шельф», определение которого содержится в ст. 76 Конвенции ООН по морскому праву, и «исключительная экономическая зона», дефиниции которого сформулированы в ст. 55 Конвенции ООН по морскому праву и в ст. 1 Конвенции ООН о континентальном шельфе от 29 апреля 1958 г. Это обязывает отечественного законодателя не только учесть значение данных терминов в международном праве, но и согласовать языковое выражение сложных понятий «преступление, совершенное на континентальном шельфе РФ», и «преступление, совершенное в исключительной экономической зоне РФ», с положениями указанных международных актов.
Необходимо это потому, что в соответствии с правилами, установленными Конвенцией по морскому праву (ст.ст. 56, 77, 80, 81) и Конвенцией ООН о континентальном шельфе (ст.ст. 2, 5), прибрежному государству
предоставляется ограниченный объем суверенных прав на указанных территориях. Их реализация допустима лишь в целях разработки, исследования и обеспечения сохранности природных ресурсов соответствующих территорий. Применительно к осуществлению уголовной юрисдикции государства на его континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне это означает, что привлечение к уголовной ответственности по уголовному закону прибрежного государства возможно лишь за те преступления, совершенные в пределах этих территорий, которые связаны с нарушением норм и правил по исследованию и разработке природных ресурсов.
Однако во втором предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ нет никакой оговорки относительно круга таких преступлений. То есть по его смыслу уголовная юрисдикция РФ распространяется на любые преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Тем самым, как справедливо отмечается в уголовноправовой литературе, происходит неоправданное распространение уголовной юрисдикции РФ1. В связи с этим требуется отразить в уголовном законе ограниченность круга преступлений, относимых к числу совершенных на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, на которые распространяется действие российского УК, соответственно положениям указанных международных актов. Одним из возможных вариантов является дополнение правила, сформулированного во втором предложении ч. 2 ст. 11 УК РФ, отсылкой к нормам международного права, а именно словами «в соответствии с международным договором Российской Федерации»2.
Все изложенное выше относительно правил действия уголовного закона в пространстве, закрепленных в ч.ч. 1-3 ст. 11 УК РФ, позволяет констатировать рассогласованность заголовка ст.11 и ее содержания. При том, что ст. 11 названа «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ», в нее включены преступления, действительно совершенные на территории РФ (ч. 1), и, как мы уже убедились, преступления, совершенные за пределами территории РФ (ч.ч. 2, 3). К ним относятся преступления, совершенные: а) на континентальном шельфе РФ; б) в исключительной экономической зоне РФ; в) на судне, приписанном к порту РФ, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов РФ; г) на военном корабле или военном воздушном судне РФ, находящемся вне пределов РФ. Таким образом, заголовок ст. 11 УК РФ, как не соответствующий ее содержанию, требует корректировки.
Примеры для заимствования можно найти в зарубежном уголовном законодательстве. Так, УК Аргентины применяется к преступлениям, совершенным на территории Аргентины или в подлежащих ее юрисдикции местах (п. 1 ст. 1 УК Аргентины). В Своде законов США, помимо определения термина «Соединенные Штаты» в территориальном смысле (§ 5), раскрывается значение термина «особая морская и территориальная юрисдикция Соединенных Штатов» (§ 7).
Термин «юрисдикция» известен и международному праву, обозначаемое им понятие широко используется, например, в упоминаемых выше Конвенции ООН по морскому праву и Токийской Конвенции. Кроме того, данный термин является конституционно-правовым, в частности, Конституция РФ оперирует им применительно к континентальному шельфу и исключительной экономической зоне: «РФ обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права» (ч. 2 ст. 67).
В теории действия уголовного закона в пространстве право государства требовать от лиц соблюдения своего национального законодательства и привлекать к уголовной ответственности за его преступное несоблюдение обычно обозначают термином «юрисдикция», а в случае распространения этого права государством за пределы
собственной территории - термином «экстерриториальная юрисдикция»1.
Приведенные соображения позволяют предложить новое наименование ст. 11 УК РФ -«Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ, и особых территориях, на которых осуществляется юрисдикция РФ».
Четвертый языковой дефект - неясность содержания термина - имеет место, как думается, в ч. 1 ст. 12 УК РФ.
Здесь сформулировано первое правило действия уголовного закона в пространстве по принципу гражданства: «граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие вне пределов РФ преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства». Как видим, в тексте присутствуют сразу три бланкетных термина. Первый - «граждане РФ» (его содержание раскрывается в ст. 5 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»). Второй -«лица без гражданства» (его содержание раскрывается в абз. 5 ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», в абз. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; конкретизация по признаку «постоянно проживающее в РФ» осуществляется на базе определения, данного в абз. 10 ч. 1 ст. 2, с учетом предписания ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). Третий - многословный уголовно-процессуальный термин «решение суда», обозначающий сложное понятие, которое может быть выражено сочетанием терминов «решение» + «суд» (с уточнением о принадлежности суда к иностранному государству). И именно последний термин, по нашему представлению, является неясным.
Следует заметить, что данный термин появился в тексте ч. 1 ст. 12 УК РФ не так давно2, с его использованием формулируется одно из условий применения российского УК в отношении граждан РФ и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов РФ в виде «отсутствия решения суда иностранного государства по данному преступлению». В первоначальной же редакции ч. 1 ст. 12 УК РФ 1996 г. была иная формулировка - «если эти лица не были осуждены в иностранном государстве», уяснение которой в целом, как и включенного в нее термина «осуждение», не вызывало затруднений.
Подчеркнем, что и сейчас уяснение сочетаемого термина «суд», а также принадлежности суда к иностранному государству не представляет никаких затруднений. Неясность обнаруживается только при толковании содержания составного термина «решение суда», о чем свидетельствует многообразие возможных вариантов его толкования и того смысла, который он придает обозначенному в ч. 1 ст. 12 УК РФ условию применения российского УК.
Так, по мнению З.А. Незнамовой, изложение ч. 1 ст. 12 УК РФ в новой редакции содержательно не изменило рассматриваемое условие, которое по-прежнему ставится в зависимость от факта осуждения указанных лиц в иностранном государстве3. Другие авторы считают, что сейчас ч. 1 ст. 12 УК РФ охватываются случаи вынесения не только обвинительного, но и оправдательного приговора4. Б.В. Волженкин, кроме того, включает в обозначаемое термином «решение суда» понятие решения об освобождении от уголовной ответственности и о применении
различных мер уголовно-правового воздействия1. В противовес его точке зрения Е. Климова признает решением суда в контексте ч. 1 ст. 12 УК РФ только приговор, не уточняя при этом, обвинительным или оправдательным его следует считать2. Г.И. Богуш, критически оценивая новую формулировку ч. 1 ст. 12 УК РФ, отмечает, что, в строгом смысле, даже решение о назначении экспертизы или о вызове свидетеля является «решением суда»3.
Для такого многообразия толкования содержания термина «решение суда» есть все основания, так как он обозначает обобщенное понятие, имея и в российском, и в зарубежном уголовно-процессуальном законодательстве самые разнообразные значения. Поскольку данный термин употребляется применительно к иностранному государству, в попытке уяснения его значения обратимся к уголовнопроцессуальному законодательству зарубежных стран.
Согласно, например, УПК Республики Беларусь (далее - РБ) под «процессуальными решениями» (то есть решениями в интересующем нас значении этого слова) понимаются «выносимые в ходе уголовного процесса… решения, предусмотренные настоящим Кодексом: приговоры, определения, постановления» (п. 36 ст. 6); а термин «суд» применяется в отношении любого организованного на законных основаниях суда РБ, рассматривающего уголовные дела коллегиально или единолично (п. 42 ст. 6). Судом могут быть вынесены решения о направлении дела по подсудности (п. 1 ч. 1 ст. 276); о приостановлении производства по делу (п. 3 ч. 1 ст. 276); о назначении судебного разбирательства (п. 4 ч. 1 ст. 276); об отложении судебного разбирательства (ч. 1 ст. 302) и многие другие. Из буквального толкования текста ч. 1 ст. 12 УК РФ следует, что вынесение любого из указанных решений судом РБ препятствует привлечению гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства к уголовной ответственности по УК РФ.
Кроме того, среди решений, принимаемых судами иностранных государств по уголовным делам, есть такие, аналогов которым в российском УПК не имеется. Вновь обращаясь к УПК РБ, в качестве примера можно привести определение (постановление) суда о прекращении производства по уголовному делу в связи с применением мер административного взыскания (п.3 ч.1 ст.30). В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 33 УПК Туркменистана казыет первой инстанции вправе вынести определение о прекращении уголовного преследования лица, если имеется соответствующая справка учреждения здравоохранения о том, что данное лицо страдает неизлечимой болезнью в тяжелой форме. УПК Республики Молдова предусматривает решение об освобождении лица от уголовной ответственности и прекращении производства по делу по истечении срока условного прекращения уголовного преследования (ч. (2) ст. 512). Оценить, насколько оправдан отказ от привлечения к уголовной ответственности по УК РФ лица, в отношении которого вынесено подобное решение, вообще не представляется возможным в силу отсутствия какого-либо представления об основаниях и последствиях его принятия.
Еще одна проблема, связанная с употреблением в ч. 1 ст. 12 УК РФ анализируемого термина, на наш взгляд, заключается в том, что ряд решений, которыми оканчивается производство по уголовному делу в судах иностранных государств, выносится по нереабилитирующим основаниям. По УПК РБ такими основаниями являются, к примеру, истечение сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 29), деятельное раскаяние (п. 1 ч. 1 ст. 30), примирение с потерпевшим (п. 2 ч. 1 ст. 30). Их аналоги есть в УПК РФ, однако не факт, что подобные решения суда имел в виду законодатель в ч. 1 ст. 12 УК РФ.
Для придания ясности тексту ч. 1 ст. 12 УК РФ, по нашему мнению, термин «решение суда» следует уточнить путем указания на основные сущностные признаки такого акта, исключающие привлечение указанных здесь лиц к уголовной ответственности по УК РФ после его принятия судом иностранного государства. Полагаем возможным согласиться с Г.И. Богушем в том, что этой цели
соответствует термин «окончательное решение суда»1. Кроме того, как представляется, термин «окончательное решение суда» необходимо дополнить составляющими, указывающими на то, что в таком решении должна быть дана оценка предъявленному обвинению, должен содержаться вывод о виновности или невиновности лица в совершении преступления.
Возможные варианты для заимствования имеются в уголовных кодексах ряда европейских стран. Так, в соответствии со ст. 113-9 УК Франции никакое преследование не может быть предпринято против лица, ссылающегося на то, что за те же самые действия за границей ему был вынесен вступивший в законную силу окончательный приговор и, в случае осуждения, что наказание было исполнено или потеряло силу по истечении срока давности. Сходное положение содержат УК Швейцарии и УК Австрии с тем отличием, что ими охватывается также случай освобождения лица от наказания иностранным судом (ч. 1 ст. 6 УК Швейцарии и абз. 4 § 65 УК Австрии), а УК Австрии, кроме того, и случай освобождения лица от уголовной ответственности (п. 2 абз.4 § 65 УК Австрии ). В соответствии с УК Дании лицо не должно подлежать уголовному преследованию в Дании в случае, если оно окончательно оправдано, или наложенное наказание отбыто, отбывается или отменено в соответствии с законом государства, в котором расположен суд, или оно признано виновным, но не наложено никакое наказание в этой стране (ст. 10а (1) УК Дании). В § 12а УК Норвегии также упоминаются случаи вынесения оправдательного приговора, признания лица виновным без принятия какой-либо санкции, а также прекращения действия принятой судом санкции в соответствии с нормами страны суда.
Все вышеизложенное позволяет в итоге заключить, что бланкетная терминология, используемая в формулировках правил действия российского уголовного закона в пространстве, нуждается в совершенствовании.
Список литературы Правила действия российского уголовного закона в пространстве: терминологический аспект
- Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998. -С.88.
- Архипов С.И. Понятие и юридическая природа локальных норм//Правоведение. -1987. -№ 1. -С. 37.
- EDN: TVWNGX
- Законодательная техника: Научно-практическое пособие/Под ред. Ю.А. Тихомирова. -М.: Городец, 2000. -С. 266.
- О классификации норм международного права см., напр.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов. М.: Волтерс Клувер, 2005. -С. 73. Одновременно ч. 3 ст. 11, ч.ч. 2 и 3 ст. 12 УК РФ содержат скрытую (подразумеваемую) отсылку к Федеральному закону от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ (в редакции от 1 декабря 2007 г.) «О международных договорах Российской Федерации», где определяется значения термина «международный договор Российской Федерации» и регулируется порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров Российской Федерации.
- Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава: монография. М.: Российская академия правосудия, 2009. -С.41-42.
- EDN: RAXQGR