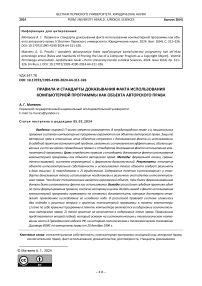Правила и стандарты доказывания факта использования компьютерной программы как объекта авторского права
Автор: Матвеев А.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 2 (64), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: мировой IT-рынок уверенно развивается. В международном праве и в национальных правовых системах компьютерные программы охраняются как объекты авторского права. Защита авторских прав в отношении этих объектов сопряжена с доказыванием факта их использования. В судебной практике возникает ряд проблем, связанных с установлением эффективных, сбалансированных и в то же время справедливых правил и стандартов доказывания факта использования компьютерной программы.
Интеллектуальная собственность, компьютерная программа, исходный код, авторское право, исключительное право, факт использования, доказательства, достоверность, стандарты доказывания
Короткий адрес: https://sciup.org/147244087
IDR: 147244087 | УДК: 347.78 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-64-311-326
Текст научной статьи Правила и стандарты доказывания факта использования компьютерной программы как объекта авторского права
Все достижения четвертой промышленной ре‐ волюции используют силу цифровых и информаци‐ онных технологий. Мировой рынок информацион‐ ных технологий (IT) уверенно развивается. Как пра‐ вило, его сегментируют на сферы: IT‐услуг, про‐ граммного обеспечения, компьютерной техники, оборудования связи, информационной безопасно‐ сти. В 2023 году объем мирового ИТ‐рынка вы‐ рос на 3,3 % по отношению к 2022 году и достиг 4,68 трлн долл. США1.
Программное обеспечение, или компьютерные программы, – экономически самый капиталоемкий сегмент IT‐рынка. Эта тенденция еще более усилилась в 2023 году, безусловным символом которого стала технология искусственного интеллекта, являющаяся сегодня одним из главных драйверов роста IT‐ отрасли. По мнению специалистов, в 2024 году объем мирового ИТ‐рынка достигнет 5 трлн долл. США2.
Впечатляющая коммерциализация и высокие стоимостные характеристики программного обеспе‐ чения обусловили и продолжают предопределять высокую значимость установления эффективного механизма его правовой охраны. Как в международ‐ ном праве, так и в национальных правовых системах компьютерные программы охраняются как объекты авторского права. В целом авторское право – это очень удобный и достаточно эффективный механизм защиты интересов разработчиков программного обеспечения.
Однако на уровне правоприменения возникает ряд проблем, связанных с установлением эффектив‐ ных, сбалансированных и в то же время справедли‐ вых правил и стандартов доказывания факта исполь‐ зования компьютерной программы как объекта ав‐ торского права. Очевидно, что интерес правооблада‐ телей, сталкивающихся с неправомерным исполь‐ зованием их программ, направлен на установление мягких правил и низких стандартов такого доказы‐ вания в цивилистическом процессе. В то же время потенциальные пользователи программного обеспе‐ чения заинтересованы в том, чтобы вменяемый им факт использования объекта подтверждался бы до‐ стоверными доказательствами и не основывался на презумпциях, противоречащих закону. Российская судебная практика показывает, что иногда ответчики несут гражданско‐правовую ответственность за сам факт хранения программы на компьютере, находя‐ щемся в их помещении, при том условии, что они не устанавливали программу и даже не использовали этот компьютер.
Целью настоящей работы является определе‐ ние правил и стандартов доказывания факта исполь‐ зования компьютерной программы как объекта ав‐ торского права.
Компьютерная программа как нетипичный объект авторского права
История компьютеров в современном их пони‐ мании берет свое начало в разработках Джона Ата‐ насова (John Atamasoff) и Конрада Цузе (Konrad Zuse), которые на рубеже 1930–1940‐х годов независимо друг от друга построили вычислительные машины, ра‐ ботавшие в двоичной системе счисления. В 1973 году суд штата Миннесота подтвердил, что Atanasoff‐Berry Computer является первым электронным компьюте‐ ром в мире1.
Сначала при использовании компьютеров про‐ граммное обеспечение было неразделимо привя‐ зано к определенной модели компьютера. Соответ‐ ственно, проблемы самостоятельной правовой охра‐ ны компьютерных программ как объекта интеллекту‐ альной собственности не было. В 1964 году был выпу‐ щен компьютер IBM System/360, архитектура которого была настолько удачной, что стала промышленным стандартом для последующей вычислительной тех‐ ники. Многие компании начали выпускать совмести‐ мые с IBM 360 компьютеры. Именно это обстоятель‐ ство стало предпосылкой для формирования самосто‐ ятельного рынка программного обеспечения.
Примерно на рубеже 1960–1970‐х годов актуа‐ лизировалась проблема установления эффективной частноправовой охраны интересов разработчиков компьютерных программ. В качестве двух базовых правовых режимов такой охраны рассматривались авторское право и патентное право. Однако не все эксперты того времени были убеждены в необходи‐ мости такой охраны. Так, в своей известной статье 1970 году Стивен Брейер (Stephen Breyer) написал, что отсутствие охраны авторских прав на компьютерные программы вряд ли существенно повлияет на разра‐ ботку таковых. Он полагал, что было бы неразумно распространять охрану авторских прав практически на все компьютерные программы, поскольку такая экспансия может нанести значительный вред. Если производители компьютеров будут защищать автор‐ ским правом почти все свои программы, то возникнет серьезная проблема транзакционных издержек [12, p. 346–347]. По мнению ученого, повсеместная охрана компьютерных программ может привести к тому, что многие из пользователей будут заимство‐ вать только алгоритм программы и воссоздавать саму программу или, что более вероятно, вносить различные изменения в нее, чтобы избежать копиро‐ вания [12, p. 346–347].
На международном уровне вопрос об охране ком‐ пьютерных программ начал обсуждаться в 1971 году, когда Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) организовала совещание экс‐ пертов с целью подготовки соответствующего иссле‐ дования. Напомним, что в том же году состоялся по‐ следний пересмотр Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 году, который никаким образом еще не коснулся компьютерных программ. С одной стороны, можно сказать, что перечень охраняемых Бернской конвенцией произведений является открытым. Сле‐ довательно, при применении пункта 1 статьи 2 Кон‐ венции нет формальных препятствий исключать из него компьютерные программы. С другой стороны, та‐ кой формальный подход противоречит изначальной нацеленности авторского права на охрану только ли‐ тературных и художественных произведений. Компь‐ ютерные программы по своей сути – это функциональ‐ ные технические объекты. Поэтому отнесение их к об‐ ласти авторского права требовало научного обоснова‐ ния и политических решений.
В 1978 году ВОИС опубликовала Типовые поло‐ жения об охране компьютерного программного обеспечения2. Во введении к Типовым положениям обосновывается необходимость охраны программного обеспечения и предлагаются две основные модели такой охраны – патентное право и авторское право. По мнению экспертов, предпочтительной формой охраны является авторское право. Во‐первых, мно‐ гие государства, а также Европейская патентная кон‐ венция исключают компьютерные программы из пе‐ речня патентоспособных изобретений. Во‐вторых, даже если бы патентная охрана была общедоступ‐ ной, то она охватила бы незначительную часть ком‐ пьютерных программ, так как большинство из них не соответствует такому условию охраны, как изобрета‐ тельский уровень3.
В 1985 году ВОИС организовала совещание экс‐ пертов по вопросу охраны компьютерных программ. Одним из пунктов повестки дня этого мероприятия стал вывод о том, что многие государства постепенно начи‐ нают предоставлять компьютерным программам ав‐ торско‐правовую охрану на основе законодательства или прецедентов, не дожидаясь международного соглашения1. По сути, это совещание привело к реша‐ ющему прорыву и консенсусу относительно того, что компьютерные программы следует охранять автор‐ ским правом. Например, в том же 1985 году Франция, Германия, Япония и Великобритания законодательно признали программы объектами авторского права. Таким образом, вопрос о принятии договора по охране компьютерных программ потерял острую акту‐ альность и был исключен из повестки дня ВОИС.
Первым глобальным международным соглаше‐ нием, в котором была установлена охрана компью‐ терных программ, стало Соглашение ТРИПС от 15 ап‐ реля 1994 г.2 Согласно пункту 1 статьи 10 Соглашения компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код, охраняются как литературные произ‐ ведения в соответствии с Бернской конвенцией в ре‐ дакции 1971 года. Юридическое приравнивание ком‐ пьютерных программ к литературным произведе‐ ниям было основано на позиции ВОИС. Например, в комментарии к Типовым положениям законода‐ тельства в сфере авторского права отмечается, что одни государства предоставляют компьютерным про‐ граммам охрану как литературным произведениям, а другие – как самостоятельным произведениям. По мнению экспертов ВОИС, первый подход является предпочтительным3.
В первоначальном проекте пункта 1 статьи 10 Соглашения ТРИПС указывалось также, что авторско‐ правовая охрана компьютерных программ по насто‐ ящему соглашению не распространяется на любой язык программирования, правило, алгоритм, ис‐ пользуемые для создания такой программы [19, p. 154]. Однако это предложение было изменено, чтобы соответствовать разделу 102 Закона Соеди‐ ненных Штатов об авторском праве 1976 года, со‐ гласно которому авторско‐правовая охрана ориги‐ нального произведения не распространяется на ка‐ кую‐либо идею, операцию, способ, систему, метод, концепцию, принцип или открытие, независимо от формы их описания, объяснения, иллюстрирования или изображения в таком произведении4. В резуль‐ тате специальное положение о неохраняемых эле‐ ментах компьютерной программы было трансфор‐ мировано в общее правило пункта 2 статьи 9 Согла‐ шения ТРИПС: охрана авторских прав должна распространяться на специфические воплощения, но не на идеи, процедуры, методы работы или матема‐ тические концепции как таковые.
В то же время Соглашение ТРИПС не содержит за‐ прет охраны компьютерных программ патентным пра‐ вом. В пункте 1 статьи 27 Соглашения указано, что па‐ тенты выдаются на любые изобретения, независимо от того, являются ли они продуктом или способом во всех областях техники. Это общее правило не означает, од‐ нако, и того, что государства – члены ВТО должны при‐ знавать компьютерные программы патентоспособ‐ ными. В целом такой нейтральный подход выгоден развивающимся странам, так как он оставляет вопрос о патентоспособности алгоритмов компьютерных программ на их усмотрение [12, p. 346].
В 1996 году авторско‐правовая охрана компью‐ терных программ была установлена также в Дого‐ воре ВОИС по авторскому праву5. Согласно статье 4 Договора компьютерные программы охраняются как литературные произведения в смысле статьи 2 Берн‐ ской конвенции. Такая охрана распространяется на компьютерные программы независимо от способа или формы их выражения. В согласованных заявле‐ ниях к указанной статье зафиксировано, что объем охраны компьютерных программ по настоящему До‐ говору соответствует статье 2 Бернской конвенции, равно как и соответствующим положениям Соглаше‐ ния ТРИПС. Цель таких согласованных заявлений со‐ стоит в том, чтобы дать указания в отношении того, как следует толковать положения Договора. В част‐ ности, в пункте 2 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.6 установлено, что с целью толкования договора кон‐ текст охватывает, кроме текста, включающего преам‐ булу и приложения, любое соглашение, относящееся к договору и достигнутое между всеми участниками в связи с заключением договора. Таким образом, ни‐ чего нового относительно объема охраны компью‐ терных программ в Договоре ВОИС по авторскому праву сказано не было.
В России (как и в других странах) компьютерная программа (программа для ЭВМ) охраняется как объект авторского права (ст. 1259, 1261 Граждан‐ ского кодекса РФ, далее – ГК РФ). При этом согласно статье 1261 ГК РФ «программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функциони‐ рования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, вклю‐ чая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения». Фундаментальный принцип авторского права состоит в том, что оно охраняет творческое выражение идей, но не сами идеи. Соответственно, авторское право охраняет ис‐ ходный текст и объектный код компьютерной про‐ граммы, но не идеи и алгоритмы, лежащие в ее ос‐ нове [18].
Авторские права на программы для ЭВМ охраня‐ ются так же, как авторские права на произведения ли‐ тературы (ст. 1261 ГК РФ). Это положение основано на исследованиях ВОИС 1970‐х годов, целью которых было обоснование охраны компьютерных программ через институт авторского права. Так, известный гер‐ манский ученый Ойген Ульмер (Eugen Ulmer), про‐ ведя по заданию ВОИС исследование, сравнил введе‐ ние программы в компьютер с воспроизведением ли‐ тературного произведения и пришел к выводу, что компьютерные программы можно охранять как объ‐ екты авторского права [17, p. 112].
Поясним, что исходный текст, или исходный код программы, – это код, написанный на исходном языке программирования, таком как язык ассем‐ блера и/или язык высокого уровня, в машиночитае‐ мой форме, пригодной для ввода в ассемблер или компилятор1. Согласно другому определению, ис‐ ходный текст – это компьютерная программа в тек‐ стовом виде на каком‐либо языке программирова‐ ния2. Исходный текст/код доступен для понимания людьми, но недоступен для понимания компьюте‐ ром. Для того чтобы программа для ЭВМ заработала, исходный код необходимо превратить (скомпилиро‐ вать) в исполняемый файл (объектный код)3.
Объектный код – это код, который является непосредственно пригодным для использования центральным процессором объектного компью‐ тера4. Более просто можно сказать, что «под объект‐ ным кодом понимается код программы, который по‐ лучается в результате преобразования исходного кода специальной программой, именуемой компи‐ лятором (compiler), или если исходный код написан на языке ассемблера (assembler). Объектный код мо‐ жет иногда также именоваться бинарным кодом, так как он представлен в виде нулей и единиц» [10]. Объектный код непонятен человеку и не предназна‐ чен для чтения человеком.
Следует подчеркнуть, что один исходный текст (код) может порождать различный объектный код в зависимости от используемого компилятора. Однако это не приводит к тому, что с точки зрения авторского права мы имеем дело с разными компьютерными программами. «Единство исходного кода, лежащего в основе таких различных вариантов объектного кода, обусловливает и тождественность с правовой точки зрения полученных результатов» [10].
Сказанное означает, что программа для ЭВМ – это не типичный, не классический, а технологичный объект авторского права. Как идентификация про‐ граммы для ЭВМ, так и установление факта ее ис‐ пользования требуют специальных или экспертных знаний.
Понятие использования объектов интеллектуальной собственности
С точки зрения права интеллектуальной соб‐ ственности (интеллектуального права) понимание объекта интеллектуальной собственности следует различать в двух смыслах: 1) повседневном и 2) юри‐ дическом (гражданско‐правовом). В той же самой мере необходимо различать понятие использования объекта интеллектуальной собственности в двух дан‐ ных аспектах. Эти идеи отражены в ГК РФ, актах су‐ дебной практики и юридической доктрине.
В юридическом смысле объекты интеллектуаль‐ ной собственности – это объекты, перечисленные в статье 1225 ГК РФ. Например, в Российской Федера‐ ции не охраняются как интеллектуальная собствен‐ ность доменные имена, наименования некоммерче‐ ских организаций, наименования (названия) средств массовой информации, что подтверждено в пунк‐ те 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23 апреля 2019 г.5 Этот перечень квазиобъек‐ тов интеллектуальной собственности можно продол‐ жить и включить в него: научные открытия; как тако‐ вые изображения музейных предметов и коллекций; как таковые освещения спортивных мероприятий; фирменный стиль, если он не охраняется как произве‐ дение или товарный знак.
Все объекты интеллектуальной собственности имеют нематериальный характер (нематериальную природу). Среди специалистов по праву интеллекту‐ альной собственности во всем мире это утверждение является очевидным и общепринятым. Поэтому в своих материалах Всемирная организация интеллекту‐ альной собственности обычно лаконично указывает:
«В отличие от прав на традиционную собственность, права ИС нематериальны по своей природе» [15, p. 14]. В одном из лучших российских учебников по интеллектуальному праву этот тезис раскрыт более полно: «Каждая из групп этих объектов имеет суще‐ ственные особенности возникновения, осуществле‐ ния и содержания исключительного права, распоря‐ жения им, но для всех объектов основным, отличаю‐ щим их от объектов вещных прав является их нема‐ териальный характер. Эти объекты не являются обо‐ ротоспособными, не подвержены износу, не могут быть предметом виндикации, их характеристики не определяются с помощью таких вещно‐правовых ка‐ тегорий, как масса, вес, длина и т. п.» [8].
В частности, рассматриваемое фундаменталь‐ ное свойство объектов интеллектуальной собствен‐ ности обусловило закрепление следующих правил: «Интеллектуальные права не зависят от права соб‐ ственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствую‐ щие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; переход права соб‐ ственности на вещь не влечет переход или предо‐ ставление интеллектуальных прав на результат ин‐ теллектуальной деятельности или на средство инди‐ видуализации, выраженные в этой вещи, за исключе‐ нием случая, предусмотренного абз. 2 п. 1 ст. 1291 ГК РФ)» (п. 1 и 2 ст. 1227 ГК РФ). Конституционный Суд РФ в этой связи обоснованно указал, что в силу зна‐ чительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены в возмож‐ ности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллекту‐ альной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами1.
Таким образом, следует разграничивать объект интеллектуальной собственности и материальный объ‐ ект (вещь), в котором он может быть воспроизведен (объективирован). Более того, в одной вещи могут быть использованы несколько объектов интеллектуальной собственности. Например, в повседневном смысле компакт‐диск с десятью записанными на нем песнями может восприниматься как один объект интеллекту‐ альной собственности (1 альбом) или как 10 объектов. Так, в 2010 году суды квалифицировали диск с двадца‐ тью песнями как одно произведение, что было при‐ знано Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ ошибкой2. В настоящее время Верховный Суд РФ дает судам по этому вопросу четкие разъяснения: «Музы‐ кальное произведение с текстом или без текста
(объект авторского права), его исполнение артистом‐ исполнителем и фонограмма исполнения представ‐ ляют собой самостоятельные результаты интеллек‐ туальной деятельности, исключительные права на которые могут принадлежать разным лицам. Распо‐ ряжение осуществляется в отношении каждого права отдельно»3. В то же время использование в гражданском обороте двух или более объектов ин‐ теллектуальной собственности с разными названи‐ ями не означает автоматически, что это юридически независимые объекты. Например, в деле о защите прав на песню «Музыка нас связала» суд, ссылаясь на заключение эксперта, пришел к выводу, что музы‐ кальное произведение С. Разиной «Музыка нас свя‐ зала new 2013» является неправомерной переработ‐ кой произведения А. Литягина «Музыка нас свя‐ зала»4.
Для права интеллектуальной собственности фун‐ даментальное значение также имеет понятие «исполь‐ зование охраняемого объекта», так как именно через использование раскрывается содержание исключи‐ тельного права в пункте 1 статьи 1229 ГК РФ и в статьях, посвященных исключительным правам на конкретные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст. 1270 – авторское право, ст. 1317 – право на исполнение, ст. 1358 – патентное право, ст. 1484 – право на товарный знак и т. д.).
Содержание понятия использования (т. е. уста‐ новление того, какие действия с объектом интеллек‐ туальной собственности являются его юридически значимым использованием, а какие – нет) и стан‐ дарты доказывания такого использования неодина‐ ковы в различных институтах интеллектуального права. Это утверждение прежде всего обусловлено неодинаковой природой и специфическими особен‐ ностями различных объектов интеллектуальной соб‐ ственности.
Хотя в статьях четвертой части ГК РФ, посвящен‐ ных исключительным правам, приводится открытый перечень способов использования охраняемого объ‐ екта, отнюдь не любое в повседневном смысле ис‐ пользование объекта считается использованием в гражданско‐правовом смысле. Например, чтение пе‐ чатного экземпляра книги можно считать использова‐ нием произведения в повседневном смысле, однако в авторско‐правовом смысле это действие не является использованием произведения.
В пункте 3 статьи 1270 ГК РФ указано, что прак‐ тическое применение положений, составляющих со‐ держание произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение, содержание произведения, в том числе положений, представля‐ ющих собой техническое, экономическое, организа‐ ционное или иное решение, не является использова‐ нием произведения применительно к правилам настоящей главы. Иными словами, сварить суп по ре‐ цепту, текст и фотографии которого могут охраняться авторским правом, – не означает использовать ре‐ цепт в смысле законоположений об авторском праве. Суд по интеллектуальным правам справед‐ ливо указал, что «практическое применение про‐ грамм ЭВМ лицом, которое не осуществляло запись данных программ в память ЭВМ и не является соб‐ ственником ЭВМ, не попадает под понятие использо‐ вания произведения, которое изложено в статье 1270 ГК РФ»1.
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 23 апреля 2019 г. приводит удачные примеры, рас‐ крывающие логику юридического понимания ис‐ пользования объекта интеллектуальной собственно‐ сти. Во‐первых, не является использованием изобре‐ тения его воплощение в проектной документации или описание в научном или литературном произве‐ дении (п. 123). Во‐вторых, с точки зрения права на то‐ варный знак «употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве сло‐ весных товарных знаков, не является использова‐ нием товарного знака, если оно осуществляется в об‐ щеупотребительном значении, не для целей индиви‐ дуализации конкретного товара, работы или услуги…» (п. 157).
Специфика и природа объекта интеллектуаль‐ ной собственности, несомненно, оказывает влияние на правила и стандарты доказывания установления факта использования такого объекта. Чем более тех‐ нологичным является охраняемый объект, тем более формализованным и четким должно быть установле‐ ние факта его использования. Например, в пункте 1358 ГК РФ для изобретений указано, что «изобретение признается использованным в про‐ дукте или способе, если продукт содержит, а в спо‐ собе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, экви‐ валентный ему и ставший известным в качестве тако‐ вого в данной области техники до даты приоритета изобретения». Таким образом, вопрос об использо‐ вании изобретения невозможно решить без участия эксперта или специалиста.
Напротив, для решения вопроса об использова‐ нии или сходстве товарных знаков специальных зна‐ ний не требуется. В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. указано, что «вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смеше‐ ния не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обыч‐ ного потребителя соответствующего товара, не обла‐ дающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован то‐ варный знак (далее – обычный потребитель), с учетом п. 162 настоящего постановления».
Программа для ЭВМ как технологичный объект недоступна для ее идентификации с точки зрения обычного потребителя. Как указывалось выше, при‐ знаки, определяющие компьютерную программу, содержатся в ее исходном тексте (коде), который до‐ ступен для анализа только специалистам в соответ‐ ствующей области знаний. Таким образом, исходя из положений статьи 1261 ГК РФ и из показанной при‐ роды программы для ЭВМ как объекта авторского права следует, что делать вывод о факте использова‐ ния/неиспользования этого объекта обоснованно и правомерно на основании доказательств, которые объективно отражали бы исследование исходного текста (текстов) программы (нескольких программ).
Правила доказывания факта использования компьютерной программы в российской судебной практике
Защита авторских прав на компьютерные про‐ граммы в рамках цивилистического процесса сопря‐ жена со сложностью доказывания истцом факта того, что на компьютере ответчика используется соответ‐ ствующая компьютерная программа. Именно по‐ этому обычно правообладатели обращаются к воз‐ можностям уголовного или административного су‐ допроизводства. Как отмечают Р. М. Янковский, И. А. Бардов и А. А. Никифоров, обыск, выемка поз‐ воляют значительно оперативнее и эффективнее по‐ лучить доказательства, которые далее будут исполь‐ зованы в гражданском или арбитражном процессе [11, с. 113]. Однако само по себе обращение к ин‐ струментарию уголовно‐процессуального или адми‐ нистративного права не снимает проблему правил доказывания факта использования программ для ЭВМ. Во‐первых, в рамках этих отраслей публичного права установление факта использования про‐ граммы также подчинено определенным правилам. Во‐вторых, использование правообладателями под‐ держки со стороны силовых органов все‐таки не яв‐ ляется повсеместным и абсолютно всегда эффектив‐ ным. В‐третьих, в литературе обращается внимание на то, что, прибегая к уголовному преследованию, потерпевший причиняет ущерб собственной репута‐ ции и что применение уголовно‐правовых средств с целью защиты авторских прав в цивилистическом процессе чрезмерно и ставит стороны в зависимость от административного ресурса [11, с. 113–114].
За тридцать лет охраны компьютерных про‐ грамм в авторском праве России отечественная су‐ дебная практика прошла путь от разрозненных утверждений о правилах доказывания факта исполь‐ зования компьютерной программы до постепенного обобщения таковых. Несомненно, роль «первой скрипки» здесь играет практика Суда по интеллекту‐ альным правам. На сегодняшний день такое обобще‐ ние выполнено в Обзоре практики Суда по интеллек‐ туальным правам по вопросам, возникающим при применении норм ГК РФ о правовой охране про‐ грамм для ЭВМ и баз данных1. Так, в пункте 1.6 Об‐ зора указано, что «вывод об использовании/неис‐ пользовании программы для ЭВМ может быть сде‐ лан судом с применением специальных познаний, в том числе с учетом консультации специалиста, за‐ ключения эксперта и иных доказательств». Суд по ин‐ теллектуальным правам ставит акцент на том, что лицо, составившее заключение об использовании программы, должно обладать специальными позна‐ ниями в необходимых областях науки и техники. Как правило, выводы об использовании/неиспользова‐ нии компьютерной программы содержатся: в заклю‐ чениях, подготовленных на основании проведенных судебных экспертиз; в заключениях экспертов орга‐ нов МВД или организаций, подготовленных по ре‐ зультатам проведения проверочных мероприятий или по запросам органов МВД; в подготовленных по заказу истца заключениях лиц, обладающих специ‐ альными знаниями; в акте совершения исполнитель‐ ных действий, составленном в рамках исполнения определения арбитражного суда об обеспечении до‐ казательств.
Раскроем эти правила более детально на кон‐ кретных примерах.
-
1. Как таковое обнаружение в памяти компью‐ тера файлов (созданных с помощью программ для ЭВМ), в которых упоминается наименование ответ‐ чика, не может свидетельствовать об использовании
-
2. Выводы о тождестве компьютерных программ обоснованно делать на основании сопоставления ис‐ ходных кодов сравниваемых программ3.
-
3. Исследования распечаток исходных кодов сравниваемых компьютерных программ может быть достаточно для вывода об использовании или неис‐ пользовании программного кода одной программы в составе другой программы4.
-
4. Истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на программу для ЭВМ и факт нарушения ответчиком указанного права путем использования этой программы способами, указан‐ ными в статье 1270 ГК РФ, а ответчик – представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца5.
-
5. Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на компьютерную программу подтвержда‐ ется экспертным заключением. Перед экспертом мо‐ жет быть поставлен вопрос о том, является ли про‐ граммный код (исходный код) программы ответчика идентичным с программным кодом программы истца6.
-
6. Если факт использования компьютерной про‐ граммы устанавливается на основании заключения компьютерно‐технической экспертизы, назначенной органами МВД, то в распоряжение эксперта для ис‐ следования следует предоставить в том числе изъ‐ ятые системные блоки компьютеров ответчика7.
-
7. Главным критерием тождественности компь‐ ютерных программ является установленный факт идентичности исходного текста (исходного кода) этих программ8.
-
8. Хранение демоверсий программы и отдельных файлов программы, а не полноценных программ не свидетельствует о нарушении ответчиком исключи‐ тельных прав на указанное программное обеспечение. В данном случае необходимой совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования про‐ граммы, на компьютерах ответчика не обнаружено9.
-
9. Предусмотренная статьей 1257 ГК РФ презумп‐ ция авторства не является тождественной презумпции обладания исключительными авторскими правами. Суд первой инстанции не исследовал, совпадают ли спорные компьютерные программы и программа, право на которую было зарегистрировано на имя истца, что повлекло отмену решения суда1.
-
10. Из нотариального протокола осмотра сайта не усматривается, каким образом программа ответ‐ чика осуществляет модификацию программы истца с учетом легального определения программы для ЭВМ, закрепленного в статье 1261 ГК РФ2.
-
11. Истец полагал, что ответчик неправомерно использовал его компьютерные программы. Судом апелляционной инстанции установлено, что, во‐ преки доводам истца об обратном, представленные истцом протоколы осмотра доказательств не содер‐ жат доказательств использования ответчиком про‐ граммы для ЭВМ, поскольку изображения, на осно‐ вании которых истец полагает возможным признать факт нарушения своих прав, находятся в открытом доступе в сети Интернет, а использование этих изображений не означает использование спорных программ. Кроме того, суд апелляционной инстан‐ ции в подтверждение данного вывода ссылается на заключение специалиста, из которого следует, что несколько элементов интерфейса и логики несколь‐ ких игр были заимствованы, однако указанные эле‐ менты являются стандартными для многих других приложений и общеупотребительными3.
-
12. Запись программы на компьютер осуществ‐ лена до регистрации ответчика в качестве юридиче‐ ского лица. Компьютерные программы хранятся на жестких магнитных дисках, но не установлены надле‐ жащим образом и не могут быть корректно исполь‐ зованы ответчиком. Более того, ответчик на основа‐ нии лицензионного договора использует аналогич‐ ную программу для ЭВМ истца. При таких обстоя‐ тельствах нахождение спорной компьютерной про‐ граммы на жестких дисках не может быть признано его использованием4.
-
13. Использование на компьютере ответчика компьютерной программы истца подтверждается ма‐ териалами проверки, проведенной сотрудниками по‐ лиции, протоколом осмотра места происшествия за‐ ключением эксперта, подготовленным в рамках про‐ веденной проверки. Протокол осмотра места проис‐ шествия подписан без замечаний и возражений.
последним в своей хозяйственной деятельности про‐ грамм без надлежащих на то доказательств2.
Указанные действия уполномоченных лиц в преду‐ смотренном законом порядке не оспорены. Следова‐ тельно, представленные документы являются допу‐ стимыми доказательствами. Довод ответчика о недо‐ казанности нарушения исключительного права истца подлежит отклонению5.
Таким образом, в целом российская судебная практика идет по пути формулирования правила, со‐ гласно которому делать вывод о факте использова‐ ния/неиспользования (в смысле ГК РФ) программы для ЭВМ правомерно на основании доказательств, которые достоверно отражали бы проведенное ис‐ следование исходного текста (текстов) программы (нескольких программ). При этом перед специали‐ стом или экспертом может быть поставлен вопрос: является ли (и в какой степени) программный код (исходный текст) программы для ЭВМ, используемой ответчиком, идентичным программному коду ком‐ пьютерной программы истца?
Оценка достоверности доказательств, подтверждающих факт использования компьютерной программы в сложных случаях
Согласно пункту 2 статьи 71 Арбитражного про‐ цессуального кодекса РФ Арбитражный суд оцени‐ вает относимость, допустимость, достоверность каж‐ дого доказательства в отдельности, а также доста‐ точность и взаимную связь доказательств в их сово‐ купности. Аналогичная норма права установлена в пункте 3 статьи 67 Гражданского процессуального ко‐ декса РФ (далее – ГПК РФ). При этом понятие досто‐ верности доказательства дается в пункте 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) и отсутствует в ГПК РФ: «Доказательство при‐ знается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности».
Таким образом, достоверность – это качество до‐ казательства, которое характеризует точность, пра‐ вильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания: «Достоверно то доказатель‐ ство, которое содержит правдивую информацию о действительности. Недостоверное доказательство не позволяет установить или опровергнуть обстоятель‐ ства дела» [9]. Как отмечают А. Г. Карапетов и А. С. Ко‐ сарев: «Вынесение решений на основании большей или меньшей, но в любом случае относительной субъ‐ ективной уверенности в достоверности фактов харак‐ терно как для самых состязательных моделей про‐ цесса с максимально пассивной ролью судьи, так и для моделей, где судья играет активную роль в уста‐ новлении фактических обстоятельств» [5, с. 7].
В большинстве случаев объективную истину установить с абсолютной точностью невозможно. Со‐ ответственно, следование критерию абсолютной ис‐ тины привело бы к невозможности судебного уста‐ новления большинства юридических фактов. Про‐ фессор А. Т. Боннер обоснованно отмечал: «Установ‐ ление обстоятельств гражданских дел на основе вы‐ сокой степени вероятности – в очень многих случаях единственно возможный и необходимый способ их разрешения в условиях, когда достоверное установ‐ ление истины практически недостижимо» [2, с. 198].
Поэтому понятие достоверности понимается се‐ годня в юридической науке и правоприменительной практике через достаточно высокую или очень высо‐ кую степень вероятности или уверенности. Напри‐ мер, Верховный Суд РФ говорит о доказательствах, которые с разумной степенью достоверности позво‐ лили бы суду усомниться в действительности или за‐ ключенности сделки1. При этом в российской и зару‐ бежной юридической науке и судебной практике обычно говорят о следующих уровнях вероятности в наличии факта: 1) маловероятно; 2) вероятно; 3) под‐ тверждено; 4) очевидно (вне разумных сомнений); 5) абсолютно верно. В уголовном процессе факт мо‐ жет быть признан доказанным, когда он становится очевидным, т. е. когда достигается четвертый уро‐ вень вероятности. В гражданском процессе факт мо‐ жет быть признан доказанным путем достижения третьего уровня вероятности, т. е. путем исчезнове‐ ния разумных сомнений по поводу его существова‐ ния или несуществования [7]. А. Г. Карапетов и А. С. Косарев соотносят степень вероятности наличия факта и стандарт доказывания следующим образом: «Стандарт доказывания определяет точку на услов‐ ной шкале субъективной уверенности (вероятности), при достижении которой судья готов осуществить тот самый логический скачок к выводу о достоверности и выносить решение на основе доказанности спор‐ ного обстоятельства» [5, с. 15]. При этом заметим, что популярное сегодня в российском правоведении по‐ нятие «стандарт доказывания» понимается специа‐ листами по‐разному. Например, В. В. Аргунов и М. О. Долова, говоря о стандартах доказывания, имеют в виду «набор юридических правил, устанав‐ ливающих объем и глубину судебного познания (судебного исследования) [1, с. 82].
Приведенные выше правила доказывания фак‐ та использования компьютерной программы в це‐ лом касаются ситуаций, когда специалист или экс‐ перт изучает ее исходный текст. Однако в цивилисти‐ ческом процессе о защите авторских прав не всегда представляются и могут быть представлены доказа‐ тельства, отражающие исследование исходного тек‐ ста компьютерной программы. Например, истец мо‐ жет представить только акт проверки компьютера от‐ ветчика, в котором зафиксированы лишь снимки экрана (скриншоты) этого компьютера. В дальней‐ шем суды обычно отказывают в назначении судеб‐ ной экспертизы, поскольку исходят из того, что после направления претензии и подачи иска ответчик может удалить компьютерную программу. Например, Суд по интеллектуальным правам указал: «Отказывая в удо‐ влетворении ходатайства о назначении экспертизы, суд первой инстанции исходил из того, что компьютер с 07.09.2021 и в настоящее время находятся в пользо‐ вании ответчика, который имел возможность удалить программные продукты»2. Более того, сложность до‐ казывания факта неправомерного использования программы иногда усиливается тем, что на компью‐ тере ответчика установлена аналогичная лицензион‐ ная компьютерная программа, правообладателем ко‐ торой является истец.
Прежде всего следует подчеркнуть, что вопрос контрафактности – это вопрос права, а не факта. Вер‐ ховный Суд РФ неоднократно обращал внимание на этот аспект: «Понятие контрафактности экземпляров произведений и (или) фонограмм является юридиче‐ ским. Поэтому вопрос о контрафактности экземпля‐ ров произведений или фонограмм не может ста‐ виться перед экспертом»3.
В таких случаях, по сравнению с правилами до‐ казывания факта использования компьютерной про‐ граммы, рассмотренными выше, уровень (степень) вероятности того, что скриншоты достоверно дока‐ зывают факт неправомерного использования про‐ граммы, понижается в связи со следующим.
Осмотр диалогового окна панели управления Windows «Установка и удаление программ» не мо‐ жет гарантировать высокую или разумную степень достоверности сведений о том, что отображаемые в этом разделе программы для ЭВМ действительно в момент осмотра установлены на компьютере. В мо‐ мент осмотра отображаемые сведения могут свиде‐ тельствовать о факте установки программы, а могут и ошибочно указывать на программу, которая не уста‐ новлена на компьютере, или не содержать сведе‐ ний о программе, которая на самом деле установ‐ лена. На официальном сайте поддержки компании
Microsoft рассматривается проблема, когда в диа‐ логовом окне «Установка и удаление программ» и после удаления программы продолжают отобра‐ жаться записи о ней. Так, отмечается, что «удалять название программы из списка в диалоговом окне “Установка и удаление программ” вручную прихо‐ дится в том случае, если в процессе удаления про‐ граммы неправильно удаляется раздел реестра, от‐ вечающий за отображение названия программы»1. Невысокую степень достоверности сведений диало‐ гового окна «Установка и удаление программ» также подтверждает следующая проблема, рас‐ сматриваемая на том же сайте Microsoft: «После установки программы на компьютере она не отоб‐ ражается в окне “Установка и удаление программ” на панели управления. Кроме того, другие про‐ граммы, установленные на компьютере, которые ранее были указаны в окне “Установка и удаление программ”, могут не отображаться в списке»2.
Рассматриваемая проблема обсуждается и в специальной литературе3. Например, один из специ‐ алистов отмечает, что эта проблема является извест‐ ной и что встроенная в Windows утилита по установке и удалению программ далека от идеала и часто не может выполнить свои функции (к тому же после ее работы в системе остается множество «хвостов» как в реестре, так и среди временных файлов)4.
Таким образом, если на компьютере ответчика установлена лицензионная программа истца, а по‐ следний доказывает факт неправомерного использо‐ вания аналогичной программы посредством скрин‐ шотов, то зачастую проблематично достоверно опре‐ делить, информация о какой из программ отражена на снимке диалогового окна «Установка и удаление программ».
Хранение программы для ЭВМ в памяти компьютера как правомочие исключительного авторского права
Как показывает российская судебная практика, этот вопрос актуален при таких обстоятельствах, ко‐ гда на компьютере, который находится в собственно‐ сти или во владении ответчика, обнаружена нели‐ цензионная компьютерная программа, однако при этом отсутствуют доказательства, подтверждающие факт того, кто установил эту программу, а также того, что ответчик использовал эту программу в своей де‐ ятельности.
Содержание исключительного авторского права раскрывается в статье 1270 ГК РФ через способы ис‐ пользования произведения (правомочия), перечис‐ ленные в пункте 2 этой статьи. В подпунктах этого пункта о хранении произведения не говорится. Само по себе хранение программы не позволяет извлечь ее полезные свойства. Эта позиция отражена в од‐ ном из ранних постановлений Суда по интеллекту‐ альным правам: «Исходя из системного толкования статей 1270, 1272, 1280, 1286 ГК РФ использованием программы для ЭВМ является употребление объекта интеллектуальной собственности с целью извлече‐ ния его полезных свойств»5.
В дальнейшем судебная практика по данному вопросу резко изменилась, что позволяет говорить о том, что в российском правопорядке сложилось два подхода к разрешению вопроса о хранении компью‐ терной программы в памяти компьютера как право‐ мочии исключительного авторского права:
-
1) само по себе хранение программы для ЭВМ в памяти компьютера включается в содержание ис‐ ключительного авторского права;
-
2) само по себе хранение программы для ЭВМ в памяти компьютера не включается в содержание ис‐ ключительного авторского права.
Первый подход получил признание в связи с при‐ нятием Определения Верховного Суда РФ от 8 июня 2016 г.6 и последующей судебной практикой. В этом деле суды исходили из того, что истцом не доказан факт использования ответчиком спорного программ‐ ного обеспечения путем его воспроизведения или распространения. Суды указали, что на изъятых ком‐ пьютерах не было обнаружено ни одного файла, доку‐ мента или бухгалтерской программы, которые бы свидетельствовали о том, что данные компьютеры использовались обществом в его хозяйственной деятельности, а доказательств обратного истцом представлено не было. Более того, по мнению Суда по интеллектуальным правам: «Вывод суда о том, что в соответствии со ст. 1270 ГК РФ хранение является са‐ мостоятельным способом использования объектов авторских прав, Суд считает не соответствующим п. 2 названной статьи, содержащему перечень способов использования произведения»1.
Отменяя акты судов низших инстанций, Верхов‐ ный Суд РФ сформулировал следующую позицию: «Хранение компьютерной программы как особого объекта авторского права в памяти компьютера само по себе при отсутствии доказательств правомерно‐ сти хранения также является способом неправомер‐ ного использования программы для ЭВМ как произ‐ ведения. Данный вывод следует из нормы ста‐ тьи 1 (4) Договора ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., участником которого является Российская Федерация, в толковании согласован‐ ного заявления к указанной норме, согласно кото‐ рому право на воспроизведение, как оно опреде‐ лено в статье 9 Бернской конвенции об охране лите‐ ратурных и художественных произведений 1886 года (далее – Бернская конвенция), и допускаемые этой статьей исключения полностью применяются в циф‐ ровой среде и, в частности, в отношении использова‐ ния произведений в цифровой форме. Понимается, что хранение охраняемого произведения в цифро‐ вой форме в электронном средстве является воспро‐ изведением в смысле статьи 9 Бернской конвенции». Кроме того, Верховный Суд перевернул правило пункта 1 статьи 65 АПК РФ, согласно которому каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоя‐ тельства, на которые оно ссылается, и постановил, что факт хранения программы в памяти компьютера бу‐ дет свидетельствовать об ее использовании владель‐ цем материального носителя до тех пор, пока не дока‐ зано иное. Также по мнению Суда: «Оставление бре‐ мени доказывания на истце необоснованно и нера‐ зумно, поскольку делает практически невозможным доказывание факта нарушения по таким делам».
Второй подход основан на систематическом и телеологическом толковании части 4 ГК РФ, на исто‐ рико‐политическом и телеологическом толковании Договора ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. и согласованных заявлений к нему. Также в его основу по аналогии можно положить пункт 92 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г., согласно которому само по себе хранение матери‐ ального носителя, в котором выражен объект автор‐ ского права, без цели введения его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения, в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правобладателя. Этот подход представляется более правильным в связи со следующим.
Эволюция национального и международного авторского права сопряжена с расширением перечня и содержания исключительных прав, что всегда нахо‐ дило фиксацию в формулировках правовых актов. Однако расширение содержания исключительных авторских прав предопределено не столько техниче‐ ским прогрессом, сколько экономической значимо‐ стью новых способов сообщения произведения пуб‐ лике [6, с. 21]. В. Дилленц справедливо отметил, что «изменения появляются, если в результате усовер‐ шенствования техники создаются новые пути пере‐ дачи информации от творца произведения к потреби‐ телю, что меняет привычки потребителя» [3]. В. О. Ка‐ лятин обоснованно полагает, что ГК РФ неслучайно не упоминает хранение при перечислении способов ис‐ пользования произведения в статье 1270 [4, с. 75]. Ло‐ гика исключительного авторского права состоит в том, что хранение «поглощается» закрепленными в этой статье способами использования произведения. Соот‐ ветственно, согласие на воспроизведение или распро‐ странение включает в себя и согласие на соответству‐ ющее хранение оригинала или экземпляров произве‐ дения [4, с. 74–75]. Если бы хранение компьютерной программы по смыслу ГК РФ было самостоятельным правомочием, то это повлекло бы необходимость по‐ лучения у правообладателя отдельного согласия на это действие. Однако, как показывает лицензионная практика, в лицензионные договоры условие о право‐ мочии на хранение произведения не включается. При‐ знание хранения отдельным правомочием исключи‐ тельного авторского права повлекло бы неоднознач‐ ные последствия и коллизии с такими базовыми пра‐ вомочиями, как право на воспроизведение, право на распространение и право на доведение до всеоб‐ щего сведения.
Таким образом, признание хранения компью‐ терной программы самостоятельным правомочием нарушает логику регламентации исключительного авторского права. Она состоит в том, что правомочия (способы использования) этого права формулиру‐ ются как однопорядковые элементы, исключающие возможность поглощения одного другим. В пункте 2 статьи 146 Уголовного кодекса РФ хранение, напри‐ мер, упоминается как действие (хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта). Но в данном случае хранение выступает в ка‐ честве составной части распространения, в качестве стадии его подготовки. Эта позиция подтверждается в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г.2
Заметим, что хранение произведения не квали‐ фицируется в качестве самостоятельного авторского права или правомочия в законодательстве зарубеж‐ ных стран и международных договорах. В связи с этим обратимся к статье 1 (4) Договора ВОИС по авторскому праву 1996 года, на которую сослался Верховный Суд РФ в Определении от 8 июня 2016 г. и продолжает ссылаться Суд по интеллектуальным правам1.
В части 4 статьи 15 Конституции РФ указано: «Если международным договором Российской Фе‐ дерации установлены иные правила, чем предусмот‐ ренные законом, то применяются правила междуна‐ родного договора». В статье 1 (4) Договора ВОИС за‐ фиксировано, что Стороны соблюдают статьи 1–21 и Дополнительный раздел Бернской конвенции. К ука‐ занной статье было принято согласованное заявле‐ ние, на которое как раз сослался Верховный Суд, от‐ метив, что это положение является нормой ста‐ тьи 1 (4) Договора. Однако это заявление не является положением Договора ВОИС или какого‐либо иного международного договора. Таким образом, утвер‐ ждение Верховного Суда РФ о том, что вывод о хра‐ нении как правомочии следует из нормы статьи 1 (4) Договора ВОИС, является ошибочным как в смысле части 4 статьи 15 Конституции РФ и Венской конвен‐ ции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., так и в смысле противопоставления согласо‐ ванного заявления, не являющегося положением международного договора, нормам ГК РФ.
На Женевской дипломатической конференции в декабре 1996 года ее участники приняли согласован‐ ные заявления к некоторым положениям Договора ВОИС, которые, по всей видимости, требовали до‐ полнительных пояснений. Согласованные заявления могут рассматриваться как официальное толкование положений Договора. Это вытекает из пункта 2 ста‐ тьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров, согласно которому с целью толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включа‐ ющего преамбулу и приложения, любое соглашение, относящееся к договору и достигнутое между всеми участниками в связи с заключением договора.
Как видно, согласованное заявление имеет обя‐ зательное значение для толкования Договора тогда, когда оно было принято единогласно. Первое пред‐ ложение согласованного заявления к статье 1 (4) Договора ВОИС было принято единогласно. Оно гла‐ сит: «Право на воспроизведение, как оно опреде‐ лено в Статье 9 Бернской конвенции, и допускаемые этой статьей исключения полностью применяются в цифровой среде и, в частности, в отношении исполь‐ зования произведений в цифровой форме». Второе предложение («Понимается, что хранение охраняе‐ мого произведения в цифровой форме в электрон‐ ном средстве является воспроизведением в смысле Статьи 9 Бернской конвенции») было принято большинством голосов [16, p. 5], поэтому оно не яв‐ ляется обязательным.
По мнению В. О. Калятина, первое предложение согласованного заявления «показывает, что Договор ВОИС по авторскому праву не меняет содержания права на воспроизведение в смысле Бернской конвен‐ ции, не расширяет его путем введения в его состав но‐ вых способов использования и применяет подходы, реализованные в этой Конвенции, лишь перенося их в цифровую среду» [4, с. 78]. Один из участников Дипло‐ матической конференции и автор комментариев к до‐ говорам ВОИС М. Фичор (M. Ficsor) подтверждает эту мысль: «Представляется, что первое предложение со‐ гласованного заявления является излишним, по‐ скольку в нем декларируется нечто очевидное… При‐ чина, по которой данное предложение представля‐ ется излишним, состоит в том, что нет оснований со‐ мневаться относительно того, что выражение “любым способом и в любой форме” не включает также циф‐ ровую форму» [14, p. 195].
Таким образом, перенос права на воспроизведе‐ ние в цифровую среду означает, что хранение охраня‐ емого произведения в цифровой форме – это дей‐ ствие, аналогичное акту звуковой записи. В отноше‐ нии компьютерных программ это действие означает их копирование или установку на компьютер. В этой связи заметим, что на Дипломатической конференции в декабре 1996 года предлагалось включить в статью 7 Договора ВОИС по авторскому праву положение, со‐ гласно которому исключительное право на воспроиз‐ ведение, предоставленное авторам в пункте 1 статьи 9 Бернской конвенции, включает в себя прямое и кос‐ венное воспроизведение произведений, будь то по‐ стоянное или временное (эфемерное) воспроизведе‐ ние в любом виде и форме. Однако Дипломатическая конференция исключила предложенное положение из Договора, очевидно, придя к выводу, что авторско‐ правовой контроль за эфемерными копиями вряд ли положительно повлияет на доходы авторов, но в су‐ щественной мере поставит под угрозу бесперебойную работу компьютерных сетей [13, p. 251]. Именно в этом контексте стоит рассматривать появление вто‐ рого предложения согласованного заявления к статье 1 (4) Договора ВОИС – предложение, которое вне этого контекста вообще является избыточным. Таким образом, сепарация правомочия на хранение как та‐ ковое из права на воспроизведение в авторско‐право‐ вом смысле необоснованна. Поэтому, на наш взгляд, выражение второго предложения, включенного в об‐ суждаемое согласованное заявление (the storage of a protected work in digital form), правильнее толковать как «сохранение охраняемого произведения в цифро‐ вой форме», а не как «хранение охраняемого произ‐ ведения в цифровой форме».
Итак, из положений части 4 ГК РФ и положений Договора ВОИС по авторскому праву и согласованных заявлений к нему не следует, что хранение произве‐ дения в цифровой форме рассматривается в качестве самостоятельного правомочия исключительного ав‐ торского права. Хранение поглощается такими базо‐ выми правомочиями, как право на воспроизведение и право на распространение.
Заключение
Компьютерная программа – это нетипичный, неклассический объект авторского права. Авторское право было выбрано в качестве механизма правовой охраны компьютерных программ в том числе по‐ тому, что если бы даже патентная охрана программ была общедоступной, то она охватила бы незначи‐ тельную часть этих объектов, так как большинство из них не соответствует такому условию охраны, как изобретательский уровень.
Понимание объекта интеллектуальной соб‐ ственности и использования такого объекта следует различать в двух смыслах: 1) повседневном и 2) юри‐ дическом (гражданско‐правовом).
Содержание понятия использования (установ‐ ление того, какие действия с объектом интеллекту‐ альной собственности являются его юридически зна‐ чимым использованием, а какие – нет) и стандарты доказывания такого использования неодинаковы в различных институтах интеллектуального права. Это утверждение прежде всего обусловлено неодинако‐ вой природой и специфическими особенностями раз‐ личных объектов интеллектуальной собственности.
Чем более технологичным является охраняе‐ мый объект, тем более формализованным и четким должно быть установление факта его использования. Например, вопрос об использовании изобретения невозможно решить без участия эксперта или специ‐ алиста. Напротив, для решения вопроса об использо‐ вании или сходстве товарных знаков специальных знаний не требуется. В свою очередь, как идентифи‐ кация программы для ЭВМ, так и установление факта ее использования требуют специальных или эксперт‐ ных знаний.
Российская судебная практика идет по пути фор‐ мулирования правила, согласно которому делать вы‐ вод о факте использования/неиспользования (в смыс‐ ле ГК РФ) программы для ЭВМ правомерно на основа‐ нии доказательств, которые достоверно отражают проведенное исследование исходного текста (тек‐ стов) программы (нескольких программ). При этом пе‐ ред специалистом или экспертом может быть постав‐ лен вопрос о том, является ли (и в какой степени) про‐ граммный код (исходный текст) программы для ЭВМ, используемой ответчиком, идентичным с программ‐ ным кодом компьютерной программы истца. При этом снимки экрана компьютера далеко не всегда до‐ стоверно доказывают факт использования компью‐ терной программы.
В российском правопорядке сложилось два под‐ хода к разрешению вопроса о хранении компьютерной программы в памяти компьютера как правомочии исключительного авторского права: 1) само по себе хранение программы в памяти компьютера включа‐ ется в содержание исключительного авторского права; 2) такое хранение не включается в содержа‐ ние этого права.
Правильным представляется второй подход, ко‐ торый основан на систематическом и телеологиче‐ ском толковании части 4 ГК РФ, на историко‐политиче‐ ском и телеологическом толковании Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. и согласован‐ ных заявлений к нему.
Список литературы Правила и стандарты доказывания факта использования компьютерной программы как объекта авторского права
- Аргунов В. В., Долова М. О. О так называемых стандартах доказывания применительно к отечественному судопроизводству // Вестник гражданского процесса. 2019. № 2. С. 76–104.
- Боннер А. Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: монография. СПб.: Юридическая книга, 2009. 832 с.
- Дилленц В. Авторское право: прошлое и настоящее. Что дальше? М.: Юридическая литература, 1988. 46 с.
- Калятин В. О. Хранение произведения в цифровой форме как способ его использования // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 1. С. 70–81.
- Карапетов А. Г., Косарев А. С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к Ежемесячному журналу. 2019. № 5. Спец. выпуск. С. 3–96.
- Матвеев А., Мартьянова Е. Использование произведения в составе сложного объекта как правомочие исключительного права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2019. № 6. С. 19–26.
- Микеленас В. Стандарт доказывания по гражданскому процессуальному праву Литвы и России: сравнительный анализ // Вестник гражданского процесса. 2021. № 5. С. 242–259.
- Право интеллектуальной собственности: учебник / Е. В. Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с.
- Решетникова И. В., Закарлюка А. В., Куликова М. А. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. М.: Норма: ИНФРА‐М, 2021. 472 с.
- Савельев А. И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 337 с.
- Янковский Р. М., Бардов И. А., Никифоров А. А. Три взгляда на компьютерную программу: исходный текст, производное и служебное произведение // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. № 10. С. 100–137.
- Breyer S. The Uneasy Case for Copyright – a Study of Copyright in Books, Photocopies, and Computer Programs // Harvard Law Review. 1970. Vol. 84. № 2. Pp. 346–347.
- Goldstein P. International Copyright: Principles, Law, and Practice. New York, 2001. 618 p.
- Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms. Geneva: WIPO, 2004. 319 p.
- Intellectual Property Basics: A Q&A for Students. Beijing and Geneva: China National Intellectual Property Administration and World Intellectual Property Organization. 2019. 72 p.
- Kerever A. The New WIPO Treaties: the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty // Copyright Bulletin. 1998. Vol. XXXII. № 2. Pp. 3–17.
- Lipszyc D. Copyright and Neighbouring Rights. Paris, 1999. 917 p.
- Matveev A., Martyanova E. Patentability of Computer Program Algorithms in the G20 States // BRICS Law Journal. 2022. Vol. 9. № 3. Pp. 144–173.
- Resource Book on TRIPS and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 846 p.