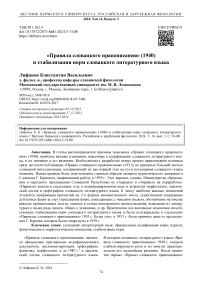«Правила словацкого правописания» (1940) и стабилизация норм словацкого литературного языка
Автор: Лифанов К.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются причины появления «Правил словацкого правописания» (1940), наиболее важные изменения, внесенные в кодификацию словацкого литературного языка, и их значение в его развитии. Необходимость разработки новых правил правописания возникла сразу же после публикации «Правил словацкого правописания» (1931), не принятых большей частью словацкой интеллигенции, воспринявшей их как первый этап на пути поглощения словацкого языка чешским. Новые правила были подготовлены главным образом лидером пуристического движения в Словакии Г. Бартеком, завершившим работу в 1939 г. Этот вариант, однако, Министерство образования и народного просвещения Словацкой Республики не утвердило и отправило на переработку. «Правила» вышли в следующем году в модифицированном виде и затронули морфологию, лексический состав и орфографию словацкого литературного языка. К числу наиболее важных изменений относятся унификация причастий на -l в формах множественного числа, существенное сокращение дублетных форм за счет упразднения форм, совпадающих с чешским языком, обозначение на письме реально произносимых долгих гласных в словах иностранного происхождения, выведение из литературного языка ряда лексем, общих с чешскими, и др. Практически все внесенные изменения способствовали стабилизации норм словацкого литературного языка и были подтверждены в следующих «Правилах словацкого правописания» 1953 г. Более того, в 1953 г. были приняты даже те предложения Г. Бартека, которые были отвергнуты в 1939 г.
Словацкий литературный язык, официальная кодификация норм, пуризм, фонетические и морфологические изменения, стабилизация норм
Короткий адрес: https://sciup.org/147246113
IDR: 147246113 | УДК: 811.162.4 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-3-74-80
Текст научной статьи «Правила словацкого правописания» (1940) и стабилизация норм словацкого литературного языка
«Правила словацкого правописания» являются официально признанным кодификационным документом, регламентирующим орфографию, фонетику, морфологию, а до 1987 г.1 и лексический состав словацкого литературного языка.
В истории словацкого литературного языка «Правила словацкого правописания» 1940 г. сыграли стабилизирующую роль и во многом предопределили его дальнейшее развитие. После принятия первых «Правил словацкого правописания»
в 1931 г.2 в Словакии сложилась в определенной степени курьезная ситуация: словацкая интеллигенция в своем большинстве их не приняла, тогда как официальные лица стали их использовать на практике. «…Кодификация орфографии, фонетики, морфологии и лексики, которая была узаконена “Правилами словацкого правописания” 1931 г., соблюдалась только в школах, в официальных изданиях и в “централистски” ориентированных публикациях, тогда как в неофициальных и в изданиях Матицы словацкой придерживались “матичного узуса”» [Pauliny 1983: 238], по сути базировавшегося на положениях «Руководства по словацкому литературному языку» С. Цамбела в редакции Й. Шкультеты [Czambel 1915, 1919]. Языковую ситуацию в Словакии в 30-е гг. XX в. описал Я. Есенский в сатирическом романе «Демократы»: «Даже словацкий литературный язык разделился на официальный, “чехословацкий”, централистский и на чистый словацкий, автономистический. Те, кто говорил „kružidlo“, „pravítko“, „inkúst“, „mluv-nica“, „menovite“, „okienko“, „rýchle“, „určite“, „modrý“, „rôzne“, „nápadne“, „nemoc“ и т. д. был централистом; те же, кто говорил „cirkeľ“, „lino-nár“, „atrament“, „gramatika“, „najmä“, „oblôčik“, „chytro“, „iste“, „belasý“, „rozlične“, „neobyčajne“, „choroba“3, ... был автономистом» [Jesenský].
Не совсем ясна роль Матицы словацкой4 в выработке «Правил словацкого правописания» 1931 г. (решение о их публикации было принято 2 октября 1931 г.). На титульном листе «Правил» указано, что их издает Матица словацкая в качестве труда своей орфографической комиссии. Во введении также указывается, что «Правила» не лишены недостатков, но они являются не творением конкретного человека, а коллективным трудом комиссии отделения языка Матицы словацкой [Pravidlá 1931: 9]. Однако на общем собрании 12 мая 1932 г. Матица словацкая выступила с заявлением о вреде «Правил» В. Важного5 и приняла решение о разработке пособия с ревизией этих правил.
Сложившаяся ситуация была обусловлена восприятием внесенных в правила языковых изменений как следствия общественно-политической атмосферы в стране. В этот период в Чехословакии была официально принята концепция чехословакизма, согласно которой существует единый чехословацкий народ, говорящий на одном чехословацком языке, который, однако, имеет два варианта литературного языка. Но это явление имеет временный характер, и в будущем два языка сольются в один, причем подразумевалось, что не появится новый язык гибридного характера, а чешский язык фактически поглотит словацкий. А поскольку «Правила словацкого правописания» имели ряд позиций, по которым словацкий и чешский языки объективно сближались, разработанные «Правила» воспринимались словацкой интеллигенцией как первый шаг на пути слияния языков, поэтому были встречены активным сопротивлением. В это время в Словакии оформляется пуристическое движение во главе с Г. Бартеком (1907–1986), который в 1932 г. основывает журнал «Словенска реч» (Slovenská reč), ставший печатным органом этого движения. И хотя в «Правилах словацкого правописания» 1931 г. был целый ряд позитивных моментов [Лифанов 2017], они оставались вне поля зрения словацкой общественности. Понятно, что в сложившихся обстоятельствах чрезвычайно актуальным становится создание новых правил правописания, которые объединили бы всех пользователей словацкого литературного языка. И такие правила начала разрабатывать созданная комиссия, в которой видную роль играл референт Матицы словацкой лидер пуристов Г. Бартек.
Разработка новых «Правил словацкого правописания» проходила со значительными сложностями, так как вокруг них велась борьба двух центров – Матицы словацкой и редакции журнала «Словенска реч», отстаивающих самобытность словацкого литературного языка, и Братиславского университета, являвшегося опорой централизма.
Первоначальным замыслом Г. Бартека была существенная реформа словацкой орфографии, которая предполагала исключение из литературного языка графемы y (ý) и обязательное обозначение мягкости согласных с помощью апострофа (над графемами t, d, l) или знака мягкости ˇ (над графемой n). По сути, это был возврат к оригинальной словацкой орфографической системе, начавшей формироваться еще в докодификаци-онный период и закрепленной в кодификациях как А. Бернолака (1787) [Pavelek 1964], так и Л. Штура (40-е гг. XIX в.), от которой при этом отказались в компромиссной «Краткой грамматике словацкого языка» 1852 г., объединившей в языковом отношении католиков, использовавших ранее бернолаковщину6, и евагеликов, писавших либо на штуровщине7, либо на чешском языке [Krátka... 1852]. Понимая, что добиться согласия Праги на такие изменения будет чрезвычайно сложно, Г. Бартек стремился заручиться поддержкой словацкой общественности. В связи с этим комиссия пыталась выяснить мнение на этот счет политических деятелей и деятелей словацкой культуры, но оказалось, что среди них нет единства в этом вопросе [Bartek 1954: 35]. Вследствие этого Г. Бартек отказывается от радикальной реформы и предлагает лишь упразднить формы причастий на -l множественного числа с окончанием -y, употреблявшихся при координации с неодушевленными существитель-ными8, то есть заменить ženy, deti robily «женщины, дети делали» на ženy, deti robili.
Создание новых «Правил словацкого правописания» затянулось, но наконец в марте 1938 г. руководству Матицы словацкой была представлена словарная часть правил, а в конце января 1939 г. – описательная часть. 14 марта 1939 г. была провозглашена независимость Словацкой Республики, и уже через несколько дней новые правила были переданы министру образования и народного просвещения Й. Сиваку для утверждения. Матица словацкая полагала, что теперь процесс одобрения новых правил правописания будет иметь формальный характер, однако действительность оказалось совершенно иной. Министр образования и народного просвещения направляет текст правил на рецензию в Братиславский университет (с 1939 г. – Словацкий университет) с целью выяснения того, не являются ли они слишком пуристическими. Комиссия Братиславского университета дает отрицательную оценку новым правилам. Вероятной причиной отрицательной рецензии могло быть то, что Братиславский университет был тесно связан с Карловым университетом в Праге, поэтому выступал против усиления различий между словацкой и чешской орфографией. Кроме того, автор «Правил» был молодым лингвистом, работавшим вне университета [Lipowski 2005: 69]. Когда Г. Бартек увидел, что рецензия была написана его непримиримым оппонентом во взглядах на словацкий язык проф. Я. Станиславом, к которому он испытывал личную неприязнь, и убедился, что Матица словацкая не намерена отстаивать все положения правил правописания, он увольняется из Матицы словацкой, уходит из редакции журнала «Словенска реч» и основывает новый журнал «Словенски язык» (Slovenský jazyk). А Матица словацкая занимается переработкой правил правописания, внося в них предложения А. А. Баника, который в это время был библиотекарем, а затем управляющим Словацкой национальной библиотекой в Турчан-ском св. Мартине. Этот вариант правил был официально одобрен и опубликован в 1940 г.
Из «Правил словацкого правописания», разработанных Г. Бартеком, были устранены следующие положения.
-
1. Одинаковое написание форм множественного числа всех родов причастий на - l с окончанием - i ( chlapi robili , ženy robili , deti robili ).
-
2. Предлоги z , zo писать с родительным падежом, а s , so – с творительным ( z hľadiska «с точки зрения», zo stanoviska «с точки зрения», s matkou «с матерью», so sestrou «с сестрой»).
-
3. Приставки z , zo , s писать в соответствии с произношением ( zbierať «собирать», zobrať «взять», schovať «спрятать»).
Вместе с тем в них представлено довольно много изменений по сравнению с «Правилами словацкого правописания» 1931 г. Некоторые из них опираются на «Руководство по словацкому литературному языку» в редакции Й. Шкультеты [Czambel 1915] и, по сути, восходят к «Науке о словацком языке» 1846 г. Л. Штура [Štúr 1846/1957]. К ним относятся прежде всего замена основообразующего суффикса инфинитива на -e- основообразующим суффиксом -ie- ( vidieť «видеть», rozumieť «понимать», trpieť «страдать», sedieť «сидеть», vedieť «знать», hľadieť «смотреть»; trieť «тереть», vrieť «кипеть», mrieť «умирать», mlieť «молоть», tlieť «тлеть») и в ряде типов спряжения – основообразующего суффикса настоящего времени -e- основообразующим суффиксом -ie- ( mriem , mrieš , mrie , mrieme , mriete «умираю, умираешь…»; triem , trieš , trie , trieme , triete «тру, трешь…»; beriem , berieš , berie , berieme , beriete «беру, берешь…»; ženiem , ženieš , ženie , ženieme , ženiete «гоню, гонишь…»).
Другим существенным изменением морфологического характера стало изменение склонения названий животных мужского рода. В «Правилах словацкого правописания» 1931 г. утверждается, что указанные слова, как и в чешском языке, склоняются как одушевленные существительные и в именительном и винительном падежах имеют формы hadi «змеи», orli «орлы», psi «собаки», vtáci «птицы», vlci «волки», zajaci «зайцы», medvedi «медведи» – (videl som) verných psov, dravých orlov, vlkov и т. д. «(я видел) верных псов, хищных орлов, волков». Исключением являются лишь слова kôň, vol, которые в указанных формах множественного числа имеют формы, аналогичные формам неодушевленных существительных: pekné kone, voly «красивые кони, волы – красивых коней, волов». В народной же речи все названия животных мужского рода во множественном числе склоняются как неодушевленные существительные [Pravidlá 1931: 55– 56]. В соответствии же с «Правилами» 1940 г. рассматриваемые существительные во множественном числе склоняются как неодушевленные: orly «орлы», sokoly «соколы», hady «змеи» (vidím velké orly, sokoly, hady «я вижу больших орлов, соколов, змей») и т. п.; zajace «зайцы», medvede «медведи», jelene «олени», motýle «бабочки», lipne «хариусы» и т. п. Формы же одушевленных существительных они приобретают при олицетворении: Vy hadi! «Вы, змеи!», Vy medvedi nemotorní! «Вы, неуклюжие медведи!» Слова же vlk «волк», pes «собака» и vták «птица» во множественном числе обычно имеют формы vlci, psi и vtáci (реже psy и vtáky) [Pravidlá 1940: 81]. По сути, это был возврат к кодификации Л. Штура [Štúr 1846/1957: 191–192].
Изменилось и склонение существительных среднего рода типа drama , заимствованных из греческого языка. Если в «Правилах» 1931 г. такого рода существительные имеют разнородное склонение, поскольку часть из них являются существительными женского рода и склоняются соответствующим образом ( astma «астма», panoráma «панорама» – род. пад. astmy , pano-rámy ), а другая часть сохраняет средний род языка-источника и либо, как в чешском языке, склоняется с наращением ( staré drama «старая драма», téma «тема» – род. пад. starého dramata / dramatu, témata / tématu ), либо вообще не склоняется ( cirkevné schizma «церковный раскол» – род. пад. cirkevného schizma ), то в «Правилах» 1940 г. все эти существительные являются существительными женского рода и соответственно склоняются ( schizma – род. пад. schizmy ).
В «Правилах» 1940 г. появляется специфическое адъективно-субстантивное склонение существительных женского рода типа gazdiná «хозяйка», kráľovná «королева», princezná «принцесса», которые в предшествующих правилах в именительном падеже единственного числа имели окончание краткое -а и, как и в чешском языке, склонялись аналогично другим существительным женского рода с этим окончанием; ср.: род. пад. ед. числа gazdiny , kráľovny , princezny 9 (1931) – gazdinej , kráľovnej , princeznej .
Из словацкого литературного языка были исключены слова с начальным сочетанием сонорного с шумным согласным, нехарактерные для диалектов словацкого языка, но типичные в чешском. В «Правилах» 1940 г. такие слова обозначены звездочкой (*) как неверные, тогда как в «Правилах» 1931 г. они считались литературными; ср.: *rváč = bitkár, *rvačka = ruvačka, *lhať10 = luhať, *lhár = luhár, *rtuť = ortuť.
«Правила словацкого правописания» 1940 г. возвращают в литературный язык действительные причастия прошедшего времени, выведенные из него «Правилами» 1931 г.; ср.: Dieťa, poplakavší si na lone materinom, zaspalo «Ребенок, поплакавший на коленях у матери, уснул»; Dieťa poplakavší si zaspalo «Поплакавший ребенок уснул» [Pravidlá 1940: 114–115].
Усилению различий между названными языками способствовало уменьшение количества дублетных морфологических форм в пользу оригинальных словацких. Так, из дублетов hrášek / hrášok «горошек», krúžek / krúžok «кружок», prášek / prášok «порошок» (чешск. hrášek, kroužek, prášek) кодифицированными остаются лишь лексемы с беглым -о-, из дублетов с суф- фиксом -áreň-/-árň(a) dreváreň / drevárňa «дровяной сарай», sypáreň / sypárňa «амбар», pekáreň / pekárňa «хлебозавод» (чешск. dřevník11, sypárna, pekárna») – лишь формы с нулевым окончанием, из дублетных форм существительных женского и среднего рода с основой на мягкий согласный с предшествующим долгим слогом slúžka «слуга» – slúžok / slúžek, túžba «желание» – túžob / túžeb, vajíčko «яичко» – vajíček / vajíčok (чешск. služek, tužeb, vajíček) сохраняются лишь формы со вставным -о-, аналогично и у слова kliatba «проклятие» – kliateb / kliatob (чешск. klateb), из дублетных форм существительных с суффиксом – iec / -ec типа koniec / konec «конец», veniec / venec «венок», hrniec / hrnec «горшок», čepiec / čepec «чепчик» (чешск. konec, věnec, hrnec, čepec) остаются лишь формы с суффиксом -iec, а из многократных глаголов с нарушением ритмического закона типа čítávať / čítavať «читывать», drúzgávať / drúzgavať «расколачивать» были сохранены лишь формы с его реализацией12.
При разработке «Правил» 1940 г. была проделана значительная лексикографическая селекция словарного состава. Ее основной целью было прежде всего выведение из словацкого литературного языка определенного количества слов, общих с чешским языком. В связи с этим довольно большое количество слов снабжается звездочкой (*), означающей, что данное слово не рекомендуется употреблять. При этом приводится слово, которое является литературным эквивалентом слова со звездочкой. Ср. примеры: * angrešt = egreš «крыжовник», *čočka (чешск. čočka ) = šošovica «чечевица», * dievčí (чешск. dívčí ) = dievčenský девичий», * divoký (чешск. divoký ) = divý «дикий», * doopravdy (чешск. doopravdy ) = naozaj «действительно», * dopis (чешск. dopis ) = list «письмо», * drtiť (чешск. drtit ) = drviť «дробить», * hájny (чешск. hajný ) = hájnik «лесник», * chlúba (чешск. chlouba ) = pýcha «гордость», * hrište (чешск. hřiště ) = ihrisko «игровая площадка», * hrebík (чешск. hřebík ) = klinec «гвоздь», * hrobitov (чешск. hřbitov ) = cintorín «кладбище», * tiaž (чешск. tíha ) = ťarcha «тяжесть», *kartáč (чешск. kartáč ) = kefa «щетка»; * veľblúd (чешск. velbloud ) = ťava «верблюд», *venkov (чешск. věnkov ) = vidiek «сельская местность». Были кодифицированы также фонетические варианты некоторых слов, отличающиеся от соответствующих чешских: * česnak (чешск. česnek ) = cesnak «чеснок», * hruza (чешск. hrůza ) = hrôza «ужас», * četa (чешск. četa ) = čata «взвод», * cvrček (чешск. cvrček ) = svrček .
Существенные изменения затронули орфографию, причем они также способствовали отдалению словацкого литературного языка от чешского. Среди них принципиальное место занимает обозначение долготы гласного в словах иностранного происхождения, в которых произносятся долгие гласные13, например: ananás , Ázia , dátum , hektár , impresário , mágia , rádio , acetylén , arménsky , epidémia , chémia , komédia , kométa , poézia , alumínium , brazílsky , i ndivíduum , mínus , pyramída , agónia , axióma , filharmónia , glóbus , irónia , kónický , mauzóleum , pavilón , pulóver , figúra , fúga , imúnny , ilýrsky , lýceum и др.
Заметным изменением, отдаляющим словацкий язык от чешского, стала кодификация написания ряда слов с удвоенным n , тогда как чешский сохранил первоначальное написание данных слов с одним n : denník «дневник», týždenník «еженедельник», nádenník «батрак», čalúnnik «обойщик», zákonník «свод законов», senník «сеновал».
В некоторых словах y ( ý ) был заменен на i ( í ): tovariš «подмастерье», tiger «тигр», ríbezle «смородина», richtár «бурмистр», rínok «рынок». В чешском же осталось первоначальное написание: tovaryš , tygr , rybíz , rychtár , rynek .
Было возвращено старое написание числительных, обозначающих десятки: dvacať (чешск. dvacet ) > dvadsať , tricať (чешск. třicet ) > tridsať , štyricať (чешск. čtyřicet ) > štyridsať , pädesiat (чешск. padesát ) > päťdesiat , šesdesiat (чешск. šesdesiat ) > šesťdesiat и т. д.
Были внесены и некоторые изменения, касавшиеся написания отдельных слов, например: preca (чешск. přece ) > predsa «все же», súsed (чешск. soused ) > sused «сосед», zamestnavateľ (чешск. zamestnavatel ) > zamestnávateľ «работодатель» и др.
Практически все внесенные изменения были затем подтверждены в следующих правилах правописания, изданных в 1953 г. [Pravidlá 1953]. Более того, в следующих правилах были одобрены непринятые изменения, предлагавшиеся Г. Бартеком, в 1953 г., хотя негативное отношение к пуристам постоянно декларировалось. Таким образом, «Правила словацкого правописания» 1940 г. способствовали стабилизации нормы словацкого литературного языка и в значительной степени указали путь его дальнейшего развития.
Список литературы «Правила словацкого правописания» (1940) и стабилизация норм словацкого литературного языка
- Лифанов К. В. «Правила словацкого правописания» 1931 г. в контексте развития словацкого литературного языка // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн. III. М.: Изд. дом ЯСК, 2017. С. 357-372.
- Bartek H. Pravidlá slovenského pravopisu // Most, r. 1, 1954, с. 2. S. 35-39.
- Czambel S. Rukovàf spisovnej reci slovenskej. Druhé vydanie. Turciansky sv. Martin: Nákladom Kníhtlaciarského úcast. spolku, 1915. 376 s.
- Czambel S. Rukovàf spisovnej reci slovenskej. Tretie vydanie. Turciansky sv. Martin: Nákladom Kníhtlaciarského úcast. spolku, 1919. 330 s.
- Jesensky J. Demokrati. URL: https://royalib.com/ jesenskJanko/demokrati.html#0 (дата обращения: 20.06.2023).
- Krátka mluvnica slovenská. V Presporku: tiskom predtym Schmidovym, 1852. 68 s.
- Krátky slovník slovenského jazyka. Martin: Vydavatel'stvo Matice slovenskej, 2023. 960 s.
- Lipowski J. Konvergence a divergence cestiny a slovenciny v ceskoslovenském státe. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2005. 200 s.
- Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenciny od za-ciatkov po súcasnosf. Bratislava: Slovenské peda-gogické nakladatel'stvo, 1983. 248 s.
- Pavelek J. (ed.). Gramatické dielo Antona Berno-láka. Bratislava: Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1964. 556 s.
- Pravidlá slovenského pravopisu s abecednym pra-vopisnym slovníkom. Praha: vydala Matica slovenská nákladom Státneho nakladatelstva, 1931. 364 s.
- Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisnym slovníkom. Turc. Sv. Martin: Matica slovenská, 1940. 482 s.
- Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisnym a gramatickym slovníkom. Bratislava: Vydavatel'stvo SAV, 1953. 408 s.
- Stúr L. Náuka reci slovenskej // E. Stúr. Dielo v piatich zvàzkoch. Zvàzok V. Slovencina nasa. Bratislava: Slovenské vydavatel'stvo krásnej litera-túry, 1957. S.153-253.