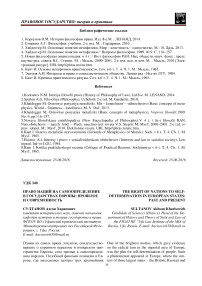Право наций на самоопределение в государствах Европы: прошлое и современность
Автор: Султанов Ахсан Харисович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 3 (45), 2016 года.
Бесплатный доступ
Одним из самых ярких лозунгов, свидетельствовавших о коренном переломе в имперском пространстве Европы, стал призыв к самоопределению народов. Подобный феномен появился в Европе, где находились центры трех крупнейших государств - Британской, Российской и Австро-Венгерской империй. На этом фоне представляет интерес, как лозунг самоопределения наций находил свое практическое применение в деятельности различных политических сил. Сегодня становится очевидным, что в современных условиях государства, призванные олицетворять западную демократию, сами непосредственно сталкиваются с наследием политических реалий, возникших в начале XX в. На протяжении всего XX и начала XXI столетий представители Западной Европы при энергичной поддержке США решали, когда дать отмашку движениям за национальное самоопределение, а когда нет. «Бумеранг истории» вернулся к тем, кто когда-то пытался замалчивать проблемы национального самоопределения.
Самоопределение наций, внутренняя и внешняя политика, коренной перелом, демократия, европейские страны
Короткий адрес: https://sciup.org/142232698
IDR: 142232698 | УДК: 340
Текст научной статьи Право наций на самоопределение в государствах Европы: прошлое и современность
На рубеже XIX и XX веков одним из самых ярких лозунгов, свидетельствовавших о коренном переломе в имперском пространстве Европы, стал призыв к самоопределению народов. Подобный феномен появился в Европе, где находились центры трех крупнейших государств – Британской, Российской и Австро-Венгерской империй. Не случайно, что ситуация обострилась именно в Европе, где в начале XX века вспыхнули балканские войны, а затем и Первая мировая. Не следует так же забывать о том, что значительные территории европейских государств находились под контролем другой империи, центр которой располагался в азиатской части планеты, – Османской. Таким образом, население европейских государств вступило в новое, XX столетие, с четко очерченными представлениями о необходимости разрешения вопросов, связанных с судьбой народов, не имевших своей государственности.
С другой стороны, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Только на рубеже XIX и XX вв. проблемы национальных взаимоотношений вышли на межгосударственный уровень и приобрели специфическое отражение, получив свое оформление как право наций на самоопределение. Достаточно вспомнить, что данное требование фактически одновременно появилось в программных документах двух разноплановых политиков – Вудро Вильсона и Владимира Ульянова-Ленина.
Первая мировая война и крушение старых европейских империй означали не только триумф демократии, но и в более отдаленной перспективе – торжество национализма. С расширением принципа национального самоопределения от западной части Европы до центральной и восточной зон парижские мирные соглашения установили образцы границ и территорий, основы которых сохраняются и сегодня. Уже упомянутый триумф национализма предопределил последовавший в этот период конвейер всплеска кровопролития, войн, гражданских потрясений. С тех пор, как развитие национальных государств, привело к этнической чересполосице в восточной Европе, проблемы национальных меньшинств стали преобладающими в политической жизни многих стран.
Когда формирование государства происходит в этимологическом развитии категории «суверенитет» из «народа» и это понятие строго связано с конкретной нацией, тогда наличие внутри указанных границ других этнических групп не может не восприниматься как своеобразный укор, угроза или вызов в глазах тех, кто свято придерживался принципов националь- ного самоопределения.
Любопытно, что в этом отношении многонациональные империи в девятнадцатом столетии функционировали совершенно на других принципах. Лояльность к династической власти, а не принадлежность к господствующему этносу, обеспечивала легитимность существования государства. Неудивительно, что в подобных условиях этнические немцы могли занимать высокие посты в царской администрации России, а дипломаты, представлявшие Османскую империю на международных конгрессах, подчас были греки по происхождению.
Первая мировая война разрушила последние остатки подобного «интернационализма». Первыми странами, где национальный аспект стал выходить на передние позиции, стали Германия и Греция. Параграф 4 программы нацистской партии 1920 г. гласил буквально следующее: «никто, кроме членов нации, не может быть гражданами государства». Причем это положение, по замыслу составителей документа было применимо к большей части европейских стран. В состояние подобного транса впадали и представители научного сообщества. Так, греческий исследователь Камбуроглоу, приводя в своем исследовании аргументы в пользу необходимости переименования турецких и славянских названий населенных пунктов в греческие, заявил буквально следующее: «на греческой земле не должно оставаться ничего негреческого» [1, p. 41].
Западные исследователи обращали особое внимание на тот факт, что многие европейские страны в этническом плане не представляли собой однородного начала. В этом смысле версальские соглашения предоставили 60 миллионам собственные государства, при этом превратив другие 25 миллионов в национальные меньшинства. Эти меньшинства включали не только евреев, цыган, украинцев и македонцев, но и бывшие господствующие группы, такие как немцы, венгры и мусульмане. Так как, бывшие «хозяевами жизни» в Османской и Австро-Венгерской империях этносы в особенности рассматривали себя как более цивилизованные по сравнению с крестьянскими выскочками, ставшими теперь правящим слоем, им тяжело было представить вхождение (фактическую ассимиляцию) в новую национальную культуру, как предлагала новая либеральная доктрина. Фактически, в Европе в период между двумя войнами ни меньшинства, ни национальное большинство не верили в ассимиляцию; новые демократические государства склонялись к исключительности и демонстрации антагонизма в сфере этнических отношений.
Державы-победители в Версале попытались приостановить процесс возникновения межнациональных конфликтов посредством разрешения данной проблемы чисто юридическим средством. По замыслу, прежде всего, лидеров Великобритании и Франции этнические меньшинства должны были оставаться в местах постоянного проживания. Одновременно указанные группы должны были быть защищены нормами международного права с тем, чтобы они впоследствии приобрели чувства национальной принадлежности. Подобный расчет вряд ли оправдал бы себя в будущем. К тому же различные международно-правовые акты не могли обуздать национальную дискриминацию в отношении этнических меньшинств. Достаточно было в этой связи проанализировать данную ситуацию в поверженной Германии.
Ярким образцом политического «вальсирования» с лозунгом «права наций на самоопределение» можно назвать речь А. Гитлера в Берлине в 1938 году непосредственно перед вторжением германского вермахта на территорию Судетской области Чехословакии. Историю возникновения этой восточно-европейской страны он относит к 1918 г., когда Центральная Европа была разорвана в клочья безумными, так называемыми «государственными деятелями» под лозунгом «права наций на самоопределение». Чешские силы во главе с Бенешем нарушили права (последовательно перечисляет фюрер германского рейха) «словаков, трех с половиной миллионов судетских немцев. К ним надо добавить свыше одного миллиона венгров, «карпатских русских» (термин А. Гитлера – А.С.) и несколько сотен тысяч поляков». Обвинив правительство Чехословакии в грубом попрании лозунга «права наций на самоопределение», в самом конце речи он обратился с весьма любопытным призывом к правительству Бенеша «договориться с другими национальными меньшинствами мирно и без насилия». То- 37
гда, заявил пафосно Гитлер: «я не буду больше интересоваться чешским государством…нам не нужны будут чехи» [2, pp. 52–53].
Сегодня прошло два с половиной десятилетия с того времени, когда с политической карты планеты исчезло государство, территория которого охватывала 1/6 земной поверхности. Не будет преувеличением подчеркнуть, что данный факт вполне очевидно выстраивается в цепи событий, происходивших в странах социалистического содружества, на фоне кардинальных изменений геополитического характера на рубеже 80–90-х годов XX века. Речь идет о серьезных политических последствиях, связанных с трансформацией государственноправового режима в странах Восточной Европы. Говоря о последовавшем распаде СССР, необходимо отметить не только факт правовых (особенно в сфере международных отношений) последствий указанного события. Следует напомнить также о том, что Советский Союз, Югославия и ЧССР в свое время символизировали торжество принципов социалистического федеративного государства. В этом смысле возникает вопрос о возможной предопределенности разрушения государства, в основу которого были заложены принципы социалистического подхода к строительству федеративного государства. Подобный тезис получил широкое распространение в связи с констатацией причин распада союзной государственности, когда фактор усиления сепаратистских тенденций в ряде республик СССР сыграл, во многом, определяющую роль. Анализ непосредственно причин указанного процесса распада следует, на наш взгляд, начинать с внимательного рассмотрения особенностей исторического развития отдельных многонациональных государств.
Применительно к анализу истории социалистических стран переход к взвешенной и объективной оценке происходивших изменений в области национально-государственного строительства произошел относительно недавно. В частности, в современной научной литературе начался процесс пересмотра оценок относительно решения важнейшего для Чехословакии национального вопроса.
Исследователи отмечают, что создатели возникшей после Первой мировой войны республики исходили из концепции «чехословакизма», согласно которой чешский и словацкий народы рассматривались как единое целое. Это была, как подчеркивают отдельные авторы «наспех созданная политическая конструкция, основанная на чрезвычайной схожести языков (каждый чех мог без специального обучения понять словака и наоборот). Но эта конструкция полностью игнорировала различия, проистекавшие от непохожих друг на друга истории и культуры этих народов» [3, pp. 45–46].
В экономической сфере нельзя было игнорировать пропасть, разделявшую чешские территории, с одной стороны Словакией и Закарпатской Украиной, с другой. Чешские области в промышленном отношении были одним из самых развитых регионов в Центральной Европе. Здесь, наряду с такими традиционными отраслями как производство текстиля и стекла существовало развитое машиностроение, включая заводы по производству автомобилей и самолетов, электронного оборудования, фабрики по производству обуви, угольные шахты. Кроме того, наличие высокой культуры сельскохозяйственного производства, где активно проявлялись преимущества кооперативного производства, были созданы предпосылки для оживленного роста промышленного производства продуктов питания. На этом фоне перспективы развития мануфактурной промышленности в Словакии выглядели весьма пессимистичными.
На почве экономического дисбаланса проистекали и другие различия. В то время как чешское общество характеризовалось значительной социальной и политической дифференциацией, для словаков были характерны однородность и преобладание сельского населения. В Словакии особенно чувствовалось отсутствие образованного и значительного по своей численности среднего класса. А те, кто мог претендовать на это, во многом приняли язык и стиль жизни правящей когда-то венгерской элиты.
Авторы, рассматривающие исторические особенности развития двух народов, подчеркивают наличие и других факторов: «(например, из 400 лиц, представлявших литературу и 38
журналистику на словацкой территории перед войной, только 19 отнесли себя к словакам, 334- к венграм, 47- к немцам). Словаки в отличие от чехов не могли черпать силы из ранних традиций независимой государственности. Из всех институтов в Словакии только католическая церковь пользовалась наибольшим уважением, в то время как на чешских территориях ее влияние продолжало ослабевать» [3, p. 46].
Для исследователей в этом плане дилемму представлял лишь один вопрос: почему из многонациональной страны, которая получила государственную независимость в 1945 г., Чехословакия после 1948 г. превратилась в двунациональное (фактически унитарное) государство. Впоследствии, в 1969 году происходит его трансформация в федеративное государство, а с 1 января 1993 г. Чехословакия перестает существовать как государственное целое, распавшись на независимые Чешскую и Словацкую республики.
Процесс мирного «развода» происходил в условиях, когда представители двух национальностей, особенно избранные в представительные органы, стали выдвигать более четкие требования. Первый конфликт произошел в начале 1990 г. по вопросу о названии государства. Тогда на заседании парламента словацкие депутаты отклонили предложение президента вернуться к названию «Чехословацкая Республика». В результате длительных переговоров было принято решение назвать государство «Федеративная Республика Чехов и Словаков». Это соглашение было достигнуто 20 апреля 1990 г.
«Разногласия по поводу наименования государства, – отмечают чешские исследователи П. Корней, Дж. Покорный, – были не столь важны, если бы они не отражали глубокие различия в оценках общего прошлого» [3, pр. 86–87]. Они же отмечали различное отношение в двух республиках к проблемам экономических преобразований. В Словакии их воспринимали с меньшей степенью энтузиазма и относились более внимательно, чем в Чехии. Согласно оценке указанных авторов, «голоса из Словакии, призывавшие к большей независимости от Праги не могли не найти соответствующего отзвука в Чехии. Оба национальных правительства, чешское, которое возглавлял Петр Питхарт и словацкое во главе с Владимиром Месияром, придерживались убеждения, что сильные республики при наличии подлинных инструментов для принятия кардинальных решений могли бы стать лучшей основой для подлинной федерации. Национальные правительства также по нарастающей вторгались в сферу юрисдикции федерального правительства. Происходил процесс уменьшения степени их независимости внутри федерации и одновременно республики все больше дистанцировались друг от друга» [3, p. 87].
Подготовка ко вторым парламентским выборам в стране происходила в условиях, когда звучали призывы к радикальному изменению конституционных отношений между двумя частями на основе конфедерации. Подобные призывы наряду с высказываниями за полную независимость получали все большую поддержку в Словакии, особенно в кругах, близких Движению за Демократическую Словакию, лидером которого В. Месияр. Словацкая национальная партия выступала за полную независимость. Любопытно, что правые защищали систему сосуществования. Общественность в самой Чехии отклоняла предположение о конфедеративном устройстве, одновременно соглашаясь с тем, что чехи не имеют права помешать словацкой нации последовать по пути к национальному суверенитету» [3, p. 87]. В конечном результате «несмотря на всевозможные опасения раздел (включая национальные валюты) произошел в атмосфере спокойствия и полного достоинства» [3, p. 88].
Как демонстрируют события последнего десятилетия в отношении требования о праве наций на самоопределение произошел своеобразный ренессанс. События вокруг Косово показали избирательное отношение западных государств к требованию реализации права этнических групп на формирование самостоятельного государства. В данном случае было продемонстрировано полное безразличие к интересам сербского населения. Когда же встал вопрос о государственном самоопределении населения крымского полуострова, государства, позиционирующие себя в качестве поборников демократии, объявили себя сторонниками сохранения государственной целостности Украины. Характерно, что буквально за считанные недели до этого 39

их представители приложили немалые усилия по дестабилизации общественно-политической ситуации в этой, четвертой по размерам территории, страны Европы. Более того, в результате этих усилий был вынужден уйти в отставку законно избранный президент Украины.
Осенью 2014 г. весь мир с большим напряжением ждал результатов референдумов в Шотландии и Каталонии. Следует отметить, что лидеры западных государств фактически напрямую поддержали руководителей Испании и Великобритании в их стремлении сохранить государственную целостность своих стран. Характерно, что если в Испании руководство страны занимало позицию полного неприятия действий сторонников независимости Каталонии, то в Соединенном королевстве власти приложили все усилия по развертыванию мощной агитационной кампания за сохранение Шотландии в составе Великобритании. Использовались все приемы цивилизованной борьбы: от публикаций в газетах о неизбежном экономическом фиаско, которое ждет самостоятельную Шотландию, до представителей основных политических партий, призывавших голосовать «NO» (за целостность страны). Даже бывший премьер-министр Гордон Браун, который особо ранее не блистал ораторскими способностями, произнес в столице Шотландии Эдинбурге эмоциональную по форме и весьма рельефную по своему содержанию речь.
Британские газеты летом 2014 года в буквальном смысле не уходили на каникулы. Им пришлось, не покладая рук, заняться пропагандой. Газета «Дейли телеграф» в номере от 20 августа привела устрашающие цифры о том, что разведанных запасов нефти в Северном море, на которые рассчитывает в будущем руководство свободной Шотландии, хватит, в лучшем случае, на 15 лет. Причем Ян Вуд, богатейший нефтегазовый промышленник, предсказавший столь мрачную перспективу, напрямую обратился к молодым жителям Шотландии, которым предстояло голосовать на референдуме. Он подчеркнул, что к тому времени, когда современные молодые люди, достигнут среднего возраста, нефти не останется на жизнь грядущих поколений.
«Гардиан» в номере от 13 августа 2014 г. приводит слова управляющего Банка Англии Марка Карни о том, что в случае возможной победы националистов неизбежно возникнут разногласия между британским и шотландским правительствами по вопросу о будущем фунта стерлингов. Это, как подчеркивает М. Карни, неизбежно приведет к необходимости решения проблемы «финансовой стабильности». В случае победы указанных сил миллиарды фунтов будут вывезены из Шотландии. Та же газета в статье от 27 августа опубликовала материал о том, что 130 видных представителей шотландского бизнеса подписали письмо с обращением голосовать в пользу сохранения унии с Британией. В письме авторы утверждают, что в противоположном случае возникнет ситуация, когда все вопросы экономического развития «будут окутаны туманом». В сложном положении окажутся проблемы денежной единицы и экспортной политики Шотландии, вопросы налогообложения и регулирования бизнеса, пенсионного обеспечения, членства Шотландии в Европейском Союзе. Авторы письма предупреждают: «неуверенность – плохо для бизнеса».
К сторонникам поддержания целостности Великобритании присоединился президент США Барак Обама. Он в начале лета 2014 г. заявил о своей поддержке действий премьер-министра Великобритании. В самом начале своего выступления глава США сделал оговорку, что предстоящее голосование – это решение самих шотландцев. Далее прозвучали традиционные фразы, которые констатировали позитивный потенциал британской государственности. Было отмечено, что Соединенное Королевство развивалось до этого времени «достаточно хорошо». Однако главный посыл прозвучал в заключительной части речи Б. Обамы: Вашингтон «глубоко заинтересован в том, что один из самых ближайших наших союзников, который когда-либо был у нас, оставался сильным, здоровым, объединенным и эффективным партнером» [4].
Таким образом, сегодня становится очевидным, что в современных условиях государства, призванные олицетворять западную демократию, сами непосредственно сталкиваются с наследием политических реалий, возникших в начале XX в. Следует подчеркнуть также тот очевидный факт, что на протяжении всего XX и начала XXI столетий представители Запад- 40
ной Европы при энергичной поддержке США решали, когда дать отмашку движениям за национальное самоопределение, а когда нет. «Бумеранг истории» вернулся к тем, кто когда-то пытался замалчивать проблемы национального самоопределения.
Список литературы Право наций на самоопределение в государствах Европы: прошлое и современность
- Mazover Mark. Dark continent: Europe`s twentieth century. London. Penguin books, 2010.
- 501 must - know speeches. Hong Kong, 2009.
- Cornej Petr, Pokorny Jiri. A brief history of the Czech lands. Prahа, 2003.
- The Guardian. 2014, June 8.