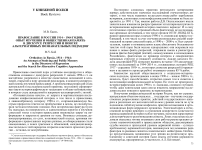Православие в России 1914 – 1964 годов: Опыт изучения и общественная память в дискурсе репрессий и поиске альтернативных познавательных подходов
Автор: Каиль М.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: У книжной полки
Статья в выпуске: 69, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика историографической ситуации, сложившейся в изучении новейшей истории православия в постсоветский период. Описываются факторы влияния, сформировавшие значимые сюжетно-тематические ограничения в изучении новейшей истории православия. Длительные познавательные и источниковые ограничения советской поры и последовавшая архивная революция начала 1990-х гг. обусловили всплеск интереса к православию и появление массы публикаций (как научных, так и публицистических), посвященных советской эпохе. В публикациях этой поры репрессивный дискурс доминировал, а преимущественной сюжетно-тематической линией стало выявление и описание фактов различных репрессий против Русской православной церкви, политико-административного давления и ограничений в деятельности религиозных организаций, а также судеб репрессированных священнослужителей. Объем и тематическое направление публикаций 1990-х гг. сформировал устойчивый шаблон в трактовке истории православия советской поры как времени репрессий, эпохи палачей и жертв. Такая упрощенческая трактовка распространила особое влияние на региональные исследования православия и не способствовала поиску новых детерминант и концептуальных трактовок в новейшей истории православия. В статье предпринимается попытка системного рассмотрения круга идей и тенденций в трактовках советской эпохи истории православия в прошедшее постсоветское тридцатилетие.
Русская православная церковь, православие, Советское государство, репрессии, общественная память, религиозная политика, политика памяти, история православия, историография.
Короткий адрес: https://sciup.org/149136992
IDR: 149136992
Текст научной статьи Православие в России 1914 – 1964 годов: Опыт изучения и общественная память в дискурсе репрессий и поиске альтернативных познавательных подходов
Orthodoxy in Russia, 1914 - 1964:
An Attempt at Studying and Public Memory in the Discourse of Repression and the Search for Alternative Cognitive Approaches
Православие советской поры устойчиво ассоциируется в общественном сознании с дискурсом репрессий. С начала 1990-х гг. он настойчиво укоренялся в качестве единственно возможной и ключевой, открытой в пору архивной революции, и концептуализирующей основы изучения православия. А проблематика репрессий стала центральной в исследовательской практике, постепенно сформировав такую историографическую тенденцию и облако публицистики, в которых стала центральной и напрямую ассоциируемой с эпохой.
«Познавательные качели», от запрета и маргинализации исследования конфессиональной истории, в том числе и православия, к лавинообразному интересу 1990-х гг., сопровождавшемуся быстрым приростом текстов по проблематике в целом, не способствовали методологическим поискам. Вся историческая фактура будто бы оказалась на поверхности, и единственным порогом в изучении советской эпохи в истории православия именовался запрет на информацию и закрытость архивов по теме. Возникла ситуация, реконструировавшая, по сути, позитивистский подход: архивная информация о православных жертвах режима, ее обнародование стали самоценными, а поиск трактовок и объяснений, междисциплинарные подходы в этой парадигме открытия советского прошлого религии - остались не востребованы.
Постепенно сложилась практика ритуального цитирования первых действительно значимых исследований отечественных авторов1, в том числе изданных на русском языке работ зарубежных историков, для которых тема конфессиональной истории не была закрытой и до 1991 г.2 Так, именно работы Д.В. Поспеловского имели значительное влияние на распространение тоталитарноцентричного историописания церковной истории советского периода3. И в силу естественных причин (огромный объем фактически не исследованных архивных источников, в том числе органов ОГПУ-НКВД-КГБ, режим хранения которых в начале 1990-х гг. изменился) прирост публикаций, в том числе за счет изучения региональных реалий епархиальной истории советской поры, в 1990-е - 2000-е гг. был стремительным, однако в познавательном плане абсолютное большинство текстов этой поры были весьма однородными: они вскрывали все новые и новые факты репрессий, открывали имена и реконструировали факты биографий (житий) «новомучеников и исповедников Российских», фактически не проявляя интереса к саморазвитию церковных структур и (главное!) сообществ. Анализ каталога Отдела диссертаций РГБ позволяет выявить не менее 150 диссертационных исследований за 1994-2014 гг., посвященных истории РПЦ 1917 - середины 1950- гг., из которых сюжетам репрессий (отраженным в заглавии и структуре работ) посвящено свыше 85 % работ.
Знакомство научной общественности с социально-историческим подходом, происходившее в конце 1990-х - начале 2000-х гг., казалось, будет способствовать открытию новых тем и сюжетов в исследовании конфессиональной истории. Но этого не произошло: историографическая колея 1990-х гг. оказалась слишком глубокой, чтобы даже влиятельная идея смогла изменить направление исследовательских поисков и практику историописания.
В изучении конфессиональной истории России, как ни странно, центральным объектом оказалось... государство - изучение государственных репрессивных практик, действий государственного аппарата и различных его исполнителей на всех уровнях власти по сути подменяли собой изучение конфессии, практик исповедания и организационных форм церковного организма. Этатичный крен в отечественной истории приобрел в отношении конкретного (советского) периода церковной истории особое звучание, вытеснив характерные для исторического религиоведения сюжеты. Лишь отдельные исследовали оказались готовы посвящать свои работы реконструкции системы взаимоотношений в православном обществе, рассматривать судьбы миссии и приходской уровень церковной жизни - сутевую проблематику церковной истории, оказавшуюся под влиянием ряда факторов за рамками сюжетно-тематического мейнстрима. Особенно продуктивными, менявшими угол зрения на религиозную проблематику в советской истории были опыты изучения церковного андеграунда, предпринятые, в частности, А.Л. Бегловым4.
Однако среди подавляющего большинства публикаций государ-ствоцентризм и этатистский подход стали значимыми факторами, ограничившими исследовательский поиск в историко-религиоведческих исследованиях. Влияют они на исследовательскую практику и по сей день несмотря на распространение за три постсоветских десятилетия влиятельных познавательных концепций, способных существенно расширить сюжетно-тематический план изучения православия.
В свете охарактеризованных факторов влияния на историографическую ситуацию в изучении православия можно выделить несколько значимых вопросов конфессиональной истории сегодня:
- что изучать? - вопрос предметного плана (обосновывается ограниченностью тем и сюжетов, с достаточной полнотой отраженных в сложившейся историографии);
- баланс микро- и макро- планов: проблема ли? (его нарушение в сторону макро- побуждает к популяризации микроисторической фактуры, существенно обогащающей работы по истории православия и обладающих значительной доказательной силой);
- что главное в церковной истории?: институты vs люди (ответ можно искать в социоцентричности: история религии остро нуждается в повороте к личности и общностям, что особенно важно и содержательно при изучении конфессий, тяготеющих к коллективным формам и практикам исповедания, трансляции религиозного опыта и знаний).
Можно ли надеяться на существенное обновление как подходов, так и практики историописания в новейшей истории православия?
В близкой перспективе - скорее, нет.
Дело в том, что отмеченные вопросы - они же пути обновления и расширения исследовательской практики - сопряжены с гораздо более масштабной и затратной Источниковой эвристикой; они же побуждают проблематизировать еще не решенные в историографии вопросы культуры обращения с источниками конфессиональной истории. Одна практика - в рамках распространенной трактующей парадигмы (репрессивной) событийно описать реалии государственно-церковных отношений в заданной хронологической и географической плоскостях. Совершенно другая - ставить задачу реконструкции ранее не описанного процесса в замкнутом конфессиональном обществе: по крупицам искать разрозненные и разноречивые антропологически емкие источники, сплетая из них повествовательное полотно, в котором приходится к тому же решать и сложные этические вопросы. Ведь даже весьма содержательное изучение репрессий с заданными оценками (государство - палач / церковь - жертва) - одно, а описание и трактовка сложных взаимоотношений внутри православного общества, осмысление практик сервилизма и сложных процессов мимикрии в советской действительности - принципиально иное.
Не впадая, однако, в крайности критицизма, должно отметить, что, в отличие от ряда тем советской истории, проблематика истории православия подпитывается все еще значительным общественным интересом к ней. Заметная часть современных россиян в той или иной степени ассоциирует себя с православием. Влияет на общее восприятие темы и современная политика памяти - масштабная и продолжающаяся мемориализация православных объектов, православных деятелей. Далеко не всегда эти практики сопровождаются исследовательской работой, но на общее восприятие, «популярность» и узнаваемость темы безусловно влияют, способствуют косвенно и научным исследованиям.
Общее понимание статистики и масштабов конфликта Советского государства и Русской православной церкви сформировалось уж к началу 2000-х гг. Нулевые годы в значительной степени прошли под влиянием масштабной канонизационной практики, открытой решениями Архиерейского собора 2000 г.5, а уже в 2010-е гг. начал ощущаться кризис жанра - необходимость расширения сюжетно-тематического плана исследований, к сожалению, не преодоленный и поныне.
Продуктивны и значимы попытки ряда авторов разорвать порочный круг большевистского детерминизма, представляющего 1917 г. как перелом и переход из «золотого века» святой Руси в «большевистскую черную бездну». Распространение практики рассмотрения общеисторического рубежа начала новейшего времени (1914 г.), контекстуального влияния на судьбы православия и структуры церкви как Первой мировой войны6, так и процесса революциони-зации общества7; включение в сюжетный план предсоборных событий начала XX в. постепенно позволило сойти с точки рассмотрения большевиков как главных акторов церковной истории и уделить внимание развитию внутрицерковных процессов, основным вектором которых была трансформация синодальной системы в новую структуру патриаршего управления с последовавшим пересмотром структуры епархиального управления и построения прихода8.
Появились значимые опыты изучения внутренней логики и характерных границ различных периодов церковной истории советской эпохи, обосновавшие в том числе и внутреннюю связь сталинской вероисповедной политики и процессов, характерных для 1953 - 1964 гг. В целом же, полвека с начала новейшей эпохи (а именно такой отсчет хронологии православия, логично совпадающий с финалом правления Н.С. Хрущева, отличившегося последней масштабной антицерковной кампанией) представляют собой чрезвычайно значимый период церковной истории, судеб православия в России, испытавшего глубокие трансформирующие влияния модерна, многократно усиленные идеологией и практикой советской модернизации.
В эту эпоху изменились не только государственно-церковные от- ношения (не отличавшиеся идиллизмом и в поздней империи), но, прежде всего, состояние общества, испытавшего влияние секуряри-зационной парадигмы, ценностный вызов социализма, транслировавшего, однако, и родственные православию паттерны коллективизма-общинности. В эти полвека в церкви сменилось поколение верующих, и она прошла несколько этапов, дойдя до почти полного инфрастуктурного и социального обмеления к 1941 г. и начавшегося в 1943 г. возрождения с приходом нового поколения пастырей и паствы, сделавших ее вновь относительно массовой, в конце 1940-х - 1950-е гг.
Происходившие в это время трансформации изменили уклад и возможности монастырской жизни, сам институт монашества, питавшийся катакомбной практикой, выстоял, не потеряв своей уникальности и глубинного религиозно-этического содержания. Существенным изменениям подвергся приход - главная структурная единица церкви и структуроформирующий элемент православного общества, в котором цель индивидуального спасения души достигается зачастую в общежительных (и приходской в том числе) формах исповедания. Неоднократно и в разных направлениях менялась практика взаимоотношений прихожан и пастыря. Из духовного наставника к 1950-м - 1960-м гг. священник превратился едва ли не в наемного требоисправителя, замещающего приходскую должность под контролем советского вероисповедного законодательства и бюрократического аппарата9.
Все эти нормативные, организационные, социальные и психологические факторы и проявления церковной жизни нашли свое отражение в облике, ценностной карте православных советской поры. Изучение этих вопросов в отечественной историографии, в отличие от зарубежной, все еще чуждой сюжетам социальной истории православия и истории таинств10, вероятно еще впереди.
Каковы же основные итоги изучения полувековой новейшей истории православия в России?
На заре периода отмечено и охарактеризовано влияние Первой мировой войны на революционизацию православных, а также объективно представлены масштабные реформы Временного правительства в перестройке вероисповедного законодательства в стране11.
Чем стали 1920-е гг. для православных и какое влияние имели социально-политические процессы на православное общества в годы Гражданской войны и НЭПа, само наличие которого в церковной жизни остается в числе дебатируемых вопросов?
Исследования последних десятилетий убедительно показали, что 1920-е гг. явили большое разнообразие вариантов адаптации к реалиям церковных общин, монастырских центров и административных структур церкви. И в границах РСФСР и, тем более, на пространствах бывшей империи сложилось огромное количество 78
существенно отличающихся моделей и поведенческих практик, соответствующих местным реалиям. Местным в буквальном смысле - на уездном, волостном или конкретном сельском уровне. Да и в крупных городах положение православных общин могло отличаться от района к району: иной приходской староста вполне вживался в роль советского активиста и налаживал прямой и конструктивный диалог с исполкомом, в такой же роли коммуникатора мог выступать и отец настоятель. И, конечно, иными были реалии там, где настоятель или община избирали путь социального изоляционизма, по каким-то причинам входили в резонанс или открытый конфликт с местной исполнительной властью. В отдельных случаях отдельной общине исполком не прощал ушедшие на политический олимп (ВЦИК, Верховный Совет, ЦК компартии или иные органы) жалобы; иногда же доноситель обращал внимание на затрагивающую социальные мотивы неосторожную проповедь священника - таких случаев и случайностей, слагавших обстоятельства существования церковных общин, была масса. И только их совокупность (реконструированное множество) позволяет с той или иной полнотой воссоздать обстоятельства эпохи.
Тем не менее, общие линии все же можно и следует наметить даже в этом многообразии вариаций.
В 1920-е гг. прошли кампании по учету и регистрации церковных общин, первая - несинхронная по окончании Гражданской войны и болезненной кампании по изъятию церковных ценностей 1922 г., вторая - после реформы нормативной базы по регулированию церковной жизни в 1929 г.12 Регистрация предполагала нормирование и учет. На фоне тлевших во многих местах налоговых конфликтов и выносимых в административном порядке решений о закрытии и передаче храмовых зданий «под общественные нужды» перерегистрация стала инструментом регулирования легального существования.
1920-е гг. запомнились и обновленческим расколом, на время, но разделившим многие приходы и сформировавшим течения и группы внутри духовенства13. Возникали новые юрисдикции - на территории одного исторического диоцеза могли сосуществовать два епископа разных течений (хотя в большинстве случаев обновленцы занимали территории и ключевые храмы только после устранения -высылки или ареста - тихоновского епископа и духовенства).
Новая эпоха в истории православия наступила на рубеже 1920-х - 1930-х гг. Исследователи уже не раз отмечали, что значительная часть трактуемых как антисоветские выступлений в деревне 1930 г. были ответом на сопутствующее коллективизации закрытие храмов. В это время последовал еще один значимый перелом, изменивший как судебно-следственную практику, так и практику исполнительных органов в отношении православных. Переломным было масштабное «дело всесоюзной контрреволюционной монархиче- ской организации “Истинно-православная церковь”». Известно, что это дело вызвало ряд масштабных региональных дел той же направленности, часть из которых затем была приобщена к союзному делу, но значительная часть осталась в производстве территориальных управлений ОГПУ-НКВД14.
Вторая половина 1930-х гг., ознаменованная Большим террором со значительным количеством расстрельных приговоров для православных, архивные дела которых в территориальных управлениях ОГПУ-НКВД становились основанием для репрессирования «по лимитам» в 1937-1938 гг., качественно изменили состояние церкви и резко сократили количество как епископов (поставление которых прекратилось), так и духовенства. Согласно официальной ведомственной статистике, к 1941 г. в стране оставались открытыми 3 021 храм и 64 монастыря, были зарегистрированы 28 епископов и 6 376 священнослужителей15, тогда как в 1914 г. в империи насчитывалось 54 тыс. церквей, действовало 1 025 монастырей, а общее число духовенства превышало 112 тыс. человек16. Понятно, что за этими цифрами стоит не только многократная убыль - их разделяют поколения духовенства и верующих. За прошедшие десятилетия изменилась жизнь не менее 1-2 млн человек, принадлежащих к семьям духовенства, принтам различных храмов, церковной интеллигенции и учительству, служивших в тех церковных институтах, которые после 1917 г. постепенно ликвидировались. К 1941 г. духовенства с дореволюционным рукоположением и образованием (то есть сформировавшихся в досоветском социуме) были единицы, их убыль продолжилась и под влиянием Великой Отечественной войны17.
С ее началом, однако, в положении Русской православной церкви в СССР произошли существенные изменения. После эпохальной встречи Сталина с иерархами в сентябре 1943 г. началась реконструкция церковной системы: на освобождаемых от оккупации территориях воссоздавались епархии РПЦ, требующие как епископского управления, так и обеспечения священством. Из епископата вплоть до 1953 г. не менее половины ранее были репрессированы, 8 архиереев были в лагерях и ссылках неоднократно. Председатель Совета со делам РПЦ Г.Г. Карпов рассматривал такие биографии как залог лояльности Советской власти18.
Специфика назначения на епархии епископата и рукоположения священников из числа граждан с явно лояльной позицией по отношению к Светской власти и неоднозначной репутацией существенно изменил облик церкви: вплоть до конца 1960-х гг., когда с приходом к власти деятельных молодых епископов, сумевших возродить академическую традицию в Московской и Ленинградской духовных академиях, большинство священнослужителей не отличались ни образованностью, ни даже церковностью. Во многих советизированных приходах царила тяжелая атмосфера. Постоянное доносительство, войны в «двадцатках» и между старостами и священством, 80
зависимость от регионального уполномоченного Совета по делам РПЦ действительно серьезно ограничивали епископов. Уходили из жизни самостоятельные и духовно содержательные пастыри старшего поколения. На смену им нередко приходили требоисправите-ли, подавшиеся в священство от нужды или в поисках лучшей жизни, и опиравшиеся зачастую на усвоенные советские манипулятивные практики, тактику наветов, угроз и шантажа, обращенных как на священноначалие, так и на собратьев по служению и прихожан. В приходских советах также нередко властвовали «требовательные граждане», в «документальном наследии» которых нет и тени христианских мотивов, указаний на апостольские правила и традиции церкви, зато присутствует множество ссылок на советское законодательство, нормы и ценности социалистического общества.
После Великой Отечественной войны в провинциальной церкви не наступил мир. Материалы учетных дел в отношении епископов и клириков становились средством для манипуляций ими как со стороны властей, так и осведомленного окружения. Построить в такой обстановке здоровые и принятые в церковной традиции отношения епископа и вверенного ему клира было непросто. В этот период у иерархов было две линии взаимодействия: с церковно-административным центром (Московской Патриархией) и с местным исполкомом (прежде всего, в лице уполномоченного Совета по делам РПЦ, общение с которым у кого-то было едва ли не ежедневным). Сами же возможности и перспективы коммуникации архипастырей с властями в лице уполномоченных во многом были обусловлены личностным фактором - широтой кругозора, вовлеченностью в церковный контекст, интеллигентностью конкретного чиновника. В равной мере они зависели и от гибкости и коммуникативных способностей, порою и возраста архиерея19.
В конце 1950-х - 1960-е гг. наиболее заметные изменения отмечаются как раз в сфере внутрицерковных отношений: примат советского и социалистического над традиционным церковным, методы коммуникации и решения противоречий, свойственные скорее колхозу, но не религиозной организации - наиболее болезненные характерные черты эпохи. В конце 1950-х гг. было принято несколько постановлений ЦК КПСС, призванных интенсифицировать антирелигиозную пропаганду, сменились руководитель Совета по делам РПЦ и курс вероисповедной политики: государство инициировало реформу по децентрализации приходского управления, направленную на дезавуирование полномочий священника и доминирование подконтрольных властям приходских советов.
Против этой реформы мужественно открыто выступил архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) в последние месяцы своей жизни. Реформа, утвержденная экстренно проведенным в июле 1961 г. Архиерейским собором РПЦ, состоялась и способствовала усилению контроля прихожан за приходами. Один из свидетелей событий, ар- химандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Пимен (Хмелевский) отмечал: «Приходские советы делались практически независимыми от иерархии и в них могли проникать люди не только неверующие, но и вообще недостойные, а настоятель и даже архиерей ничего не могли с этим поделать»20.
Советизация уклада и порядков церковной жизни продолжалась до середины 1960-х гг. и сохранила влияние в последующее десятилетие, во многом определяя облик институционального православия, а равно интерес и внимание интеллигенции к церковному подполью.
* * *
Репрессивность и конфликт Русской православной церкви с Советским государством, сохраняя преобладание в тематике исследований новейшей истории православия под влиянием значимых для историописания концепций, продуктивных зарубежных исследовательских практик (изучения исповеди, реконструкции духовной биографии - становления и развития взглядов православного деятеля) и немногочисленных, но весьма продуктивных микроистори-ческих опытов постепенно перемещаются из центра продуктивных историко-религиоведческих исследований православия.
Внимание к приходской самоорганизации и эволюции содержательных практик веры, заимствуемых историками из социологии21, могут приобрести еще большее историографическое влияние.
Эти назревшие и запаздывающие изменения исследовательской практики необходимы, поскольку без них переход к новому пониманию сути произошедшего с православием в XX в. не произойдет; сложившаяся дистанция между частной верой и организационными структурами православия не будет преодолена, как и не произойдет характерного для живой исторической памяти принятия через понимание своего прошлого для миллионов современных россиян, ассоциирующих себя с историческим православием.
Список литературы Православие в России 1914 – 1964 годов: Опыт изучения и общественная память в дискурсе репрессий и поиске альтернативных познавательных подходов
- Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. Москва, 1991; Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. Москва, 1994.
- Bibliography of Works by Gregory L. Freese // Church and society in Modern Russia: Essays in honor of Gregory L. Freeze. Wiesbaden, 2015. P. 231–238.
- Поспеловский Д.В. Тоталитаризм и вероисповедание. Москва, 2003.
- Беглов А.Л. Православное образование в подполье: Страницы истории // Альфа и Омега. 2007. ? 3. С. 153–172; Беглов А.Л. Объединения православных верующих в СССР в 1920 – 1930-е годы: причины возникновения, типология и направления развития // Российская история. 2012.? 3. С. 91–104; Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб»: Церковное подполье в СССР. 2-е изд. Москва, 2018.
- Семененко-Басин И.В. Канонизация российских новомучеников и новые проблемы истории церкви // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2010. Т. 28. ? 4. С. 138–143.
- Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию: Россия, 1914 – 1917 гг. Москва, 2015.
- Рогозный П.Г. Синодальная церковь, общественное и революционное движение, или Почему духовенство приветствовало революцию // Историческая экспертиза. 2015. ? 4. С. 142–153; Рогозный П.Г. «Красные попы» как феномен эпохи революции и Гражданской войны (судьба Ионы Брихничева и Михаила Галкина) // Тетради по консерватизму. 2020. ? 1. С. 702–711.
- Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917 – 1918 годов. Т. 14. Москва, 2017.
- Гераськин Ю.В., Кленяева И.Е. Особенности конфессиональной политики советского государства в середине 1960-х годов в Рязанской области // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2020. ? 2 (67). С. 36–46.
- Киценко Н.Б. Исповедь в советское время // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. Т. 30. ? 3-4. С. 10–33; Kizenko, N. Good for the Souls: A History of Confession in the Russian Empire. Oxford, 2021.
- Соколов А.К. Министерство исповеданий Временного правительства и православная церковь // Вопросы истории. 2014. ? 2. С. 154–166; Конфессиональная политика Временного правительства России: Сборник документов. Москва, 2018.
- Батченко В.С. Власть и вера: Антирелигиозная политика и ее восприятие населением Западной области, 1929 – 1934 гг. Санкт-Петербург, 2019.
- Лобанов В.В. «Обновленческий» раскол в Русской Православной Церкви (1922 – 1946 гг.). Санкт-Петербург, 2019.
- Центральный архив ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 521.
- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 6991. Оп.1. Д. 153. Л. 2.
- Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. – конец 1917 г.). Москва, 2007. С. 58.
- Жиромская В.Б., Исупов В.А., Корнилов Г.Е. Население России в 1939 – 1945 гг. // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90. ? 9. С. 845–857.
- ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1225. Л. 79.
- Каиль М.В. Владыка Сергий (Смирнов): епископское служение и взаимоотношения с клиром послевоенной церкви // Вопросы истории. 2020. ? 9. С. 228–240.
- Пимен (Хмелевский), архиепископ. Дневники: Свято-Троицкая Сергиева Лавра: 1957 – 1964. Саратов, 2011.
- Невидимая церковь: Социальные эффекты приходской общины в современном православии. Москва, 2015.