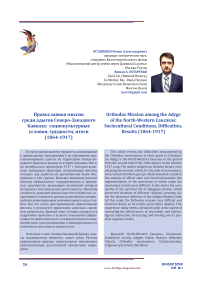Православная миссия среди адыгов Северо-Западного Кавказа: социокультурные условия, трудности, итоги (1864-1917 гг.)
Автор: Остапенко Роман Александрович
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: На перекрестках культур
Статья в выпуске: 2 (14), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются трудности, возникавшие у православных миссионеров в их стремлении христианизировать адыгов на территории Северо-Западного Кавказа в период со второй половины XIX в. до октябрьского переворота 1917 г. Автором выделено тринадцать факторов, осложняющих миссию, которые для удобства их рассмотрения были объединены в три группы. Большое внимание уделено анализу официальных государственных и церковных документов, реализация положений которых затрудняла миссионерскую деятельность. Также показана сложность духовной жизни адыгского общества, сохранявшего элементы разных религиозных концепций при доминирующем влиянии кодекса «адыгэ хабзэ». Все это очень притормаживало православную миссию, в результате принесшую довольно скромные результаты. Данный опыт сегодня нуждается в подробном изучении в аспекте повышения эффективности межэтнического и межрелигиозного взаимодействия, прогнозирования и нивелирования его возможных негативных результатов.
Северо-западный кавказ, адыги, традиционное общество, адыгэ хабзэ, русская православная церковь, православные миссионеры, христианизация, религиозный синкретизм, мюридизм, пространство минковского
Короткий адрес: https://sciup.org/170174962
IDR: 170174962
Текст научной статьи Православная миссия среди адыгов Северо-Западного Кавказа: социокультурные условия, трудности, итоги (1864-1917 гг.)
Изучение любого аспекта миссионерской деятельности, рассматриваемого в контексте определенной исторической эпохи, всегда представляется достаточно сложной задачей. Миссия является комплексным взаимодействием некоей новой концепции, приносимой извне, с уже утвердившейся религиозно-философской картиной мира определенного этноса. Что же касается миссии православной церкви среди адыгов во второй половине XIX в., а точнее с момента окончания Кавказской войны (с 1864 до 1917 гг.), то сложность ее научного изучения возрастает многократно. Данное утверждение можно проиллюстрировать множеством тезисов, которые и составят предметное поле настоящего исследования.
В целях удобства мы систематизировали их в три группы: внутренние и внешние причины, осложнявшие миссию и собственно государственно-миссионерские ошибки .
К первой группе мы отнесли: традиционное адыгское общество; кодекс адыгэ хабзэ; религиозный синкретизм и отсутствие письменности. Ко второй – политику Османской империи на Кавказе и мюридизм; ошибки правительства и бытовые конфликты с раскольниками-казаками. И к последней – бюрократические препоны; странные «правила» о порядке крещения; споры о целесообразности миссии среди адыгов; «конкуренцию» миссионерских обществ; финансовые проблемы и религиозные реформы начала XX в.
Традиционное адыгское общество. После окончания военных действий и вхождения Северного-Кавказа в состав Российской империи началось постепенное налаживание мирной жизни, параллельно шло создание церковной структуры: увеличение епархиальных центров, открытие православных приходов и монастырей. Однако все это в большинстве своем было ориентировано на русских переселенцев и казаков, общественная и религиозная жизнь адыгов практически не подвергалась изменению. Осуществление миссионерской деятельности православной церкви среди них было связано с проникновением в традиционное общество, отличающееся трепетным отношением его представителей к сохранению наследия предков, передаваемого из поколения в поколение. Для общества подобного типа также характерны такие факторы, как традиционная экономика, преобладание аграрного уклада, стабильность социальной структуры, сословная организация и ряд других. Замкнутость этого типа общества выражается и в религиозной составляющей, поэтому для миссионерской деятельности подобные общественные системы всегда представляются наиболее сложным объектом.
Со второй половины XIX в. в адыгском обществе начались масштабные трансформации, явившиеся следствием вхождения народов Северо-Западного Кавказа в состав Российской империи. Основным содержанием данных трансформаций стало постепенное размывание традиционного уклада жизни. В итоге адыгам пришлось пожертвовать некоторыми элементами своего традиционного уклада, а какие-то заимствовать из русской культуры. В целом происходило стирание границ в сфере межкультурного взаимодействия, что закладывало предпосылки и для преобразования религиозных аспектов жизни, однако развивались эти процессы очень медленно.
В данном контексте одной из причин, обусловивших трудности миссионерской деятельности православной церкви, были особенности семейно-бытовых отношений. Сложность для миссионеров заключалась в том, что их деятельность на этом уровне встречала сильное сопротивление именно в силу жесткой регламентированности данной сферы. У адыгов преобладала неразделенная семья унэгъошху , «отличительным признаком которой являлось проживание в одном дворе нескольких женатых братьев, совместно ведущих общее хозяйство» [19, c. 78-79]. Большая адыгская семья могла достигать ста и более человек. Отношения в ней были прописаны до мелочей. Главой семьи являлся старший мужчина – отец, представлявший ее на уровне селения, регулировавший повседневную хозяйственную деятельность, распоряжавшийся средствами семьи, решавший все вопросы, касающиеся жизни ее членов. Он мог категорически запретить принятие крещения какому-либо родственнику.
Кодекс «Адыгэ хабзэ». Еще одним затруднительным элементом для православной миссии был морально-правовой кодекс «Ады-гэ хабзэ», регулировавший все сферы жизни и являвшийся обязательным для исполнения. Авторы, исследующие адыгство, отождествляют его с «адыгским этикетом», раскрывая содержание через идеологизированные свойства национального характера как высшую ценность, некий идеал. Традиционная этика представлялась адыгам гораздо более «обширной и проработанной системой, нежели моральные требования адептов мировых религий» [11, с. 407], в силу чего любая вера, приходившая к ним, накладывалась на практически незыблемое ментальное ядро и воспринималась лишь частично, как совокупность новых обрядов [49, с. 20]. Таким образом, кодекс «Ады-гэ хабзэ» мешал глубоко интегрироваться в адыгское сознание всему чуждому, не адыгскому, в том числе и мировым религиозным доктринам, пришедшим извне.
Тем самым адыги подчеркивали, что внешние догматы, язык молитв, личность Бога или божеств для них не так важны, как внутренняя приверженность идеям адыгагъэ . Пять его основных принципов всегда стояли выше, чем христианские заповеди Священного Писания. Одной из основных характерных черт их религиозного сознания являлась его подчиненность этническому самосознанию, согласно которому национальная самоидентификация «я – адыг» всегда превалировала над принадлежностью человека к той или иной конфессии: «я – христианин» или «я – мусульманин» [11, с. 408].
Красноречивое подтверждение месту религии в иерархии духовных ценностей адыгов иллюстрирует народная поговорка: «Диныр хыхьэ хэк1щ, узыхэмык1ыфынур уи лъ-эпкъщ – Религию можно поменять, нельзя поменять нацию» [27, с. 75]. Иными словами, самоидентификация на уровне принадлежности к этносу стояла неизменно выше, чем по вероисповеданию. Такая концепция коренным образом противоречила христианскому учению и словам апостола Павла: «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11). В православии национальность стирается, она уже не доминанта, на первый план выходит религиозная общинная жизнь и единение на основе общих христианских ценностей.
Многовековая устойчивость нравственных норм и законов адыгагъэ позволяла адыгам воспринимать религию «достаточно свободно, наслоение различных религиозных догматов не разрушало адыгскости, а скорее закрепляло, вписываясь в ее предписания. Этикет адыгов не поглощал религию полностью, но позволял свободно в ней ориентироваться, не утрачивая национальных особенностей» [25, с. 150-151]. Выработанное в течение большого исторического опыта адыгагэ всегда оставалось базисом, а религиозные системы – всего лишь надстройками. В этой связи выглядит закономерным и следующая причина осложнявшая миссию среди адыгов.
Религиозный синкретизм. В духовной сфере адыгов продолжал сохраняться религиозный синкретизм – явление объединения различных религий (или их отдельных элементов) в единую религиозно-мировозренче-скую систему. Синкретизм у них выступал не как случайное смешение некоторых элементов различных религий, а как бессознательный отбор того, что было более приемлемо для народа. Адыги активно использовали в своих религиозных обрядах элементы как христианства и ислама, так и язычества. Особое место в их пантеоне занимал крест: «Все те места, где имеется изображение креста, считаются святыми – большей частью это руины церквей» [3, с. 108] [18, c. 448]. В культовой практике важное место занимало поклонение священным деревьям и рощам. Считалось, что достаточно повесить на такое дерево деталь одежды больного, чтобы тот исцелился. О почитании некоторых деревьев говорят и заметки путешественников: «У них есть деревья, отмеченные крестом, которые они почитают и которых никогда не касался топор... Дерево, в которое ударила молния, становилось священным» [23, с. 29, 33] [29, с. 448].
Отсутствие письменности. Во второй половине XIX в. серьезной трудностью для миссионерской деятельности православной церкви среди адыгов являлось отсутствие у них письменности. Даже при успешной проповеди христианства в устном обществе существуют серьезные ограничения для его усвое- ния и распространения. Как свидетельствует исторический опыт, любая христианская миссия среди бесписьменных народов всегда начиналась с изучения языка и дальнейшего создания письменности. К сожалению, не удалось обнаружить источники, свидетельствующие, что в это время предпринимались усилия по созданию адыгской письменности православными миссионерами.
Одна из первых попыток создания письменности у адыгов принадлежит Н. Шерет-лукову, которым в первой трети XIX в. был разработан адыгский алфавит, позже уничтоженный по настоянию исламского духовенства. В 1821 г. адыгскую (черкесскую) азбуку составил Эфенди Магомет Шапсугов. В конце 30-х гг. XIX в. лингвистом Гращилевским был создан черкесский алфавит, по которому велось обучение русскому и черкесскому языкам военнослужащих – черкесов Кавказского горского полуэскадрона. В 1840 г. кабардинскую азбуку на русской, а затем на арабо-персидской основе составил известный ученый и просветитель Б. Ш. Ногмов. В 1853 г. адыгский (нижнечеркесский) алфавит на основе арабской графики составил У. Барсей. Годом позже им был издан «Букварь черкесских языков», одобренный Академией наук и изданный в Тифлисе. Работа У. Барсея получила высокую оценку П. Услара, М. Краснова.
В 1878 г. адыгский алфавит на арабской графической основе составил Х. Анчок. Он состоял из 68 букв и отражал почти все звуки адыгской речи. В 1895 г. К. Атажукин издает в Тифлисе кабардинскую азбуку на русской графической основе, к которой впервые дает методические указания и лингвистические термины на родном языке. Систематическая работа по разработке и внедрению адыгской письменности была продолжена и в XX в.
В 1906 г. П. Тамбиев под влиянием работ Л. Г. Лопатинского издал краткую кабардинскую грамматику и русско-кабардинский словарь. В 1910 г. турецким черкесом доктором М. Пчегатлуком был изобретен адыгский алфавит на арабской графической основе. В этом же году в Константинополе были изданы написанные им букварь и учебники на адыгейском языке. В 1912 г. новым автором кабардинской азбуки на основе арабской графики стал С. Тайсаев. После длительных изысканий кабардинскую азбуку на арабской графической основе в 1916 г. изобрел Т.С.Шеретлуков. Этот процесс получил свое продолжение и после октябрьского переворота. В середине 20-х гг. XX в. недавно созданные письменности на Северном Кавказе подверглись латинизации. Завершением этого процесса можно считать 1938 г., когда произошло упорядочение адыгской письменности на основе кириллицы.
Из этого краткого исторического очерка следует заключить, что процесс формирования адыгской письменности в рассматриваемый период не был завершен, а наооборот активно развивался по нескольким направлениям, попадая под арабское, русское и европейское влияние. Поэтому миссионеры пошли наиболее простым для себя путем и решили проповедовать христианство среди адыгов на русском языке. Но здесь возникали и определенные трудности, так как государственным языком не владело большинство местного горского населения. Для их преодоления в девяти адыгейских аулах были открыты русские епархиальные школы грамоты , в которых обучались не только дети, но и взрослые.
Однако итог такой миссии оказался полностью безуспешным. Во-первых , эти школы функционировали всего четыре года, поскольку в это время им возникла альтернатива: в соответствии с цикруляром начальника Кубанской области, в горских селениях Майкопского отдела открылись государственные школы. Содержать две школы аульские общества оказались уже не в состоянии, и они перестали посылать в них детей, не стали доставлять и дрова [38, с. 22] [39, с. 508] [48, с. 733], в итоге их пришлось закрыть. Таким образом, вмешательство министерства народного просвещения погубило миссионерское начинание православной церкви.
Во-вторых, следует отметить малочисленность епархиальных школ. Они функционировали всего в 9 аулах Майкопского отдела Кубанской области (Адамий, Ульский, Ходзь, Джерокай, Блечепсин, Хатукай, Хачемзий, Ко-шехабль и Егурухай) [35, с. 312]. И за четыре года (1899-1901 и 1903 гг.) через них прошло в общей сложности 834 чел. (276 взрослых, 551 мальчик и 7 девочек) [34, c. 312] [41, с. 630]. Та- кие цифры соответсвуют примерно 1% адыгского населения проживавшего в регионе. С учетом этих сведений можно дать неудовлетворительную оценку задумке обучения русскому языку местного населения на исследуемом этапе.
Кроме внутренних рассмотренных нами причин, затрудняющих миссию среди адыгов, были и другие, внешние, которые в такой же степени стали препятствием для проникновения проповеди Христа в Кавказские земли.
Политика Османской империи на Кавказе - мюридизм. При рассмотрении проблем, с которыми столкнулась православная Церковь в процессе христианизации местного населения, важно учитывать и геополи-тичское противостояние между Российской и Османской империями. Последняя, активно участвуя в противодействии на Кавказе использовала и религиозный фактор. В итоге мусульманская вера для адыгов стала идеологическим знаменем борьбы. По словам бжедугского князя Хаджимукова: «Турки преуспели не в привитии адыгам чистого ислама, а в деле внушения им фанатичной ненависти ко всем христианам и направляли удары черкесов против России» [31, с. 19] [66, с. 12-21]. Идеологический кризис обратил их к исламу, до этого в массе своей равнодушных к официально признанной, но еще не проникшей в сознание религии. Адыгское общество нуждалось в новых ценностных ориентирах, которые могли бы явиться фундаментом в обстановке глубокого духовного надлома. И здесь ислам становился моральной опорой для опустошенных войной адыгов.
В целях усиления военной вражды горцев против России на Северный Кавказ было перенесено и радикально реформировано суфийское мистическое течение ислама – мюридизм. Но и насаждение ислама тоже имело свои трудности. Неудачи мусульманских проповедников начинались тогда, когда они касались народного быта адыгов, который строился на основе выработанного веками адыгагъэ и регулировался обычным правом – адатом. Многие адыги (абадзехи, шапсуги, натухайцы и другие) даже к середине XIX в. оставались мусульманами лишь номинально. Один из основных моментов утверждения ислама у адыгов связан с именем шейха Мансура. Темиргоевцы и шапсуги почитали его за святого и называли «эвлия Мансур» («святой» Мансур). В то же время Э. Спенсер в своей работе отмечает, что «вероучение пророка Кавказа базировалось более на христианских, чем на мусульманских доктринах, в то время как терпимость, с которой он рассматривал все системы веры, имела эффект консолидации и способствовала в немалой степени увеличению числа его сторонников» [32, с. 13] [68, с. 141] [62, с. 127].
Тем не менее, мусульманская вера стала для определенной части адыгов идеологическим знаменем национально-освободительной борьбы. Ислам среди адыгов продолжал играть значимую, консолидирующую роль и после завершения войны на Кавказе. Так, в 1865 г. среди бжедугов под руководством духовенства начинаются массовые выступления за немедленное переселение в Турцию. В отчете подполковника П. Г. Дукмасова отмечалось, что религиозный фанатизм возбужден у бжедухов более, чем где-либо между горцами Кубанской области. Эфенди Магомет Ганахок, при собрании жителей нескольких аулов - Ту-гургоевского, Тлюстенхабльского и Шеноки-евского призывал к переселению, учитывая, что бжедухи не могут оставаться здесь, потому что они обязаны служить Богу и государю (турецкому султану). Старшиной Тлюстен-хабльского аула Тарканом Куйсоком было высказано мнение, что они не могут оставаться на этой оскверненной земле, потому что, живя здесь, они не сумеют достичь рая. На собрании обществ Очепсиевского, Казанукаевско-го, Шаган-Черихабльского, Шабангальского и Эдепсукаевского аулов эфенди Хут призывал народ к немедленному уходу в Турцию, так как бжедухи должны идти к турецкому султану [8, с. 1-2] [9, с. 8, 12, 41-42] [10, с. 1]. Такой радикальный подход у части адыгского общества ко всему не мусульманскому заметно осложнял православную миссию среди них. Дело еще усугублялось и привитой ненавистью ко всему русскому, с которой ассоциировалась православная вера.
Ошибки правительства. Переходу адыгов в ислам в определенной степени способствовали и просчеты русского правительства. В царствование императрицы Екатери- ны II многие адыги были угнетаемы своими князьями, что побудило их к поиску убежища в русских владениях и переселения на военную линию, в надежде на покровительство России, но их ожидания не исполнились, и в дальнейшем им снова пришлось вернутся под власть своих князей. Мусульманство «сумело воспользоваться всеми промахами и ошибками русских в обращении их с горцами и обратить их в свою пользу, возбудив последних против России» [34, с. 428-433]. После поражения в войне в народной памяти адыгов на долгие годы закрепился сформировавшийся образ «русского врага», вместе с которым и православное христианство стало ассоциироваться как «русская вера». Современный исследователь Марат Губжоков в одном предложении смог описать альтернативную историю, что могло бы быть, но не произошло: «Взвешенная российская политика и активная миссионерская деятельность Русской православной церкви могли стать решающим фактором в области выбора веры частью адыгов и в сфере дальнейших перспектив мирного присоединения Северо-Западного Кавказа к России» [11, с. 407].
Таким образом, военно-политические обстоятельства негативно сказались на миссионерском потенциале православной церкви. Как показало развитие событий, религиозный фактор стал, с одной стороны, объединяющей, консолидирующей общество силой, поддерживающей устойчивость системы на основе общности религии, а с другой – при наличии поликонфессиональной составляющей способствовал дестабилизации обстановки, усиливая в зоне конфликтности противостояние по принципу «мусульманин – не мусульманин», «христианин – не христианин». В рамках получающей все более широкое распространение концепции столкновения цивилизаций события на Северном Кавказе все чаще рассматриваются как противостояние российского государства с мусульманскими группами, принадлежащими к разным цивилизациям [24, с. 35].
Бытовые конфликты с раскольниками-казаками. Если обозначенная проблема была вызвана просчетами в центре, то рассматриваемая ниже – уже носила местный харак- тер. Бытовые конфликты казаков с адыгами отворачивали их как от России, так и от православия. Нравственные качества представителей казачества, среди которых было большое количество сектантов, оставляли желать лучшего, многие из них были далеки от христианских добродетелей. В характере раскольников-казаков зачастую преобладали хищнические инстинкты. «Если первым русским беглецам и удалось завязать и поддерживать дружественные отношения с кавказскими народами, то казаки-раскольники нередко давали чувствовать свою силу адыгам, которые вследствие этого стали относиться к русским более враждебно» [43].
Выше мы рассмотрели внешние причины неудачной миссии церкви среди адыгов. Это были субъективные факторы, не зависящие от миссионеров, которым лишь приходилось учитывать их в своей работе или искать способы их нивелировать. Далее будут подвергнуты анализу непосредственно ошибки самой православной миссии, которая была неотделима связана с государственными институтами. Эти неудачи не умаляют достоинства отдельных выдающихся миссионеров, которые не покладая рук трудились на этой ниве. В основном ошибки были допущены на самом «верху», – в Св. Синоде, всевозможных церковных миссионерских обществах и комитетах, в действиях некоторых архиереев и ряда государственных чиновников.
Бюрократические препоны. Вызывает удивление время издания специального миссионерского указа «О предоставлении православному миссионерскому обществу права распространить свою деятельность на Кавказскую епархию» от 26 октября 1878 г., одобренного самим императором Александром II [63, с. 44-45]. Этот указ был подписан только через четырнадцать лет после присоединения региона к России. По его положениям, православному миссионерскому обществу было предоставлено право распространять свою деятельность на Кавказскую епархию. Таким образом, драгоценное время для налаживания миссионерской деятельности было потеряно. Рассмотрим еще один случай несвоевременного решения. Сразу после войны в Ставропольской губернии было задумано создать официальный журнал, в котором печатались бы епархиальные новости и миссионерские материалы, относящиеся к адыгам и другим горцам. Но только через четыре года, в 1868 г., эта идея стала широко обсуждаться среди преподавателей Ставропольской духовной семинарии. Выпуск же такого журнала начался и вовсе только с 1873 г., то есть спустя девять лет.
Особенности «правил» о порядке крещения. Если вышеописанная медлительность при принятии решений являлась следствием бюрократических проволочек, то смысл появления рассматриваемого здесь документа довольно сложно логически объяснить. В декабре 1861 г. императором были поддержаны «Правила о порядке совершения над иноверцами не христианами святого крещения» [64, с. 27] по которым запрещалось совершать крещение над язычниками, евреями и мусульманами моложе четырнадцати лет без согласия их родителей. Ими предписывалось совершать крещение только в храмах и в присутствии «благонадежных свидетелей» и выдавать евреям от 15 до 30 руб. серебром, калмыкам-простолюдинам по 15 руб., холостым – по 8 руб.
Эти «правила» на практике показали полную несостоятельность и поспешность принятых решений. После их утверждения Св. Синод был буквально завален многочисленными жалобами миссионеров. К тому же многие иноверцы стали прибегать к таинству крещения как к новому способу решить свои финансовые проблемы. Некоторые архиереи смогли добиться через Св. Синод изменений ряда формулировок в своих епархиях. Среди архипастырей, выступивших с инициативой изменения данных правил, можно назвать архиепископа Камчатского Иннокентия. На этом миссионеры не остановились и подали прошение во II отделение императорской канцелярии, чтобы полностью изъять из закона пункты, препятствующие крещению [36, с. 111-123].
Министр внутренних дел и главноуправляющий отделением императорской канцелярии частично согласились на эти изменения, что и было зафиксировано в новой редакции документа от 8 августа 1863 г. Но и такой компромиссный вариант «правил» носил половинчатый характер и большинством миссионеров был встречен также негативно. В начале 1864 г. в Св. Синод поступила петиция от архиепископа Иркутского Парфения о затруднениях, встреченных при крещении по ним. Владыка Парфений так описывал миссионерские трудности: «От родителей, признающих христианскую веру ложной и фанатически настроенных относительно христианства требовать согласия на то, чтобы их дети принимали христианскую веру, значит требовать невозможного, значит прямо и безусловно воспрещать доступ к христианскому учению детям моложе 14 лет» [46, с. 103-104].
Негодование владыки вызывал и бездарно составленный пункт о финансовой помощи. Он недоумевал почему в пособии отказано бурятам, остякам, тунгусам и прочим инородцам, не менее калмыков нуждающимся в денежном вознаграждении, так как по принятию крещения они часто становятся отверженными и подвергаются гонениям, а поселится в христианских селениях не имели средств. И даже при хорошей денежной помощи калмыкам Астраханский епископ также жаловался на эти «правила», которые не давали хороших результатов и среди них.
Только 12 мая 1874 г. на общем миссионерском собрании правительству было рекомендовано отменить эти пресловутые пункты, но и здесь возникли препятствия: требовалось предварительное заключение главноуправляющего II отделением императорской канцелярии и министра внутренних дел, а также министра финансов. Это было сделано только в июле 1891 г., то есть через тридцать лет (!), итогом чего стало лишение крещения очень многих детей.
Споры о целесообразности миссии среди адыгов. С 1864 г. велась внутрицерковная дискуссия среди православных миссионеров о целесообразности проведения миссии среди адыгов. Некоторые считали ее поспешной, по их мнению, нужно было выждать время пока не затянулись бы «раны войны». Другие вообще отвергали возможность ведения миссии среди мусульман, по их мнению «магометане фанатичны в своей вере, и поэтому нельзя надеяться на их обращение в христианство мас- сами. Религиозный фанатизм – пламенный и упорный – нисколько у них не ослабевает, а для борьбы с ним нет никаких средств. Нет и специальных проповедников Евангелия среди магометан, а у последних нет никакой охоты слушать их, тем более что вступать с иноверцами в состязание о вере им запрещено Кораном» [42, с. 70-71] [38, с. 689-692] [39, с. 690]. Подобные заключения миссионеры делали после безуспешных попыток обратить в христианство рьяных последователей ислама. Совет миссионерского братства им. св. Андрея Первозванного поддерживал такую позицию и характеризовал результаты миссии среди мусульман следующим образом: «Они редко оказывают истинную, чистосердечную, бескорыстную привязанность к христианству, и если принимают крещение, то потом являются плохими христианами». И далее делались неутешительные выводы, что «магометанская религия очень развращающе действует на сердце, и магометане почти потеряны для христианства» [40, с.17] [43, с. 75].
Такое антимиссионерское внутрицер-ковное «лобби» на Кавказе было весьма весомо и сильно осложняло миссию. Озвученная позиция глубоко ошибочна и полностью опровергается словами Спасителя, который сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Он не говорил апостолам, что нужно крестить одних, а других не крестить, так как их трудно обратить, а дал четкое указание на « все народы ». Может кто-то из скептиков возразит, что во времена Христа еще не было ислама, что, возможно, это действительно особая необра-щаемая религия, которая появилась позже и о которой Спаситель еще не знал. Но такие мысли с точки хрения христианского учения являются ересью, умаляющей божественность Христа, наделяя Его при этом полностью антропоморфными свойствами. Библейские тексты свидетельствуют о том, что Бог существует вне времени и пространства (Иоан. 1:1-3; Кол. 1:16, 17 и др.) , как и сама Библия в которой имеется много книг пророческого содержания, например, Откровение от Иоанна Богослова.
Однако, человек живет в ограниченном трехмерном мире, существуя лишь в настоящем, от него сокрыто будущее, а прошлое он может переживать лишь воспоминаниями. Религиозная картина мира подразумевает наличие у Творца немного иных свойства бытия: Он вечен и создал реальный мир не в трехмерной, а в четырехмерной метрике, в которой одновременно уже существуют и прошлое, и настоящее, и даже будущее. В XIX-XX вв. ученым (математикам [1, с. 288-306] [20, с. 50-60] [21, с. 61-70] [22, с. 27-49] [28, с. 167-179], физикам [5, с. 207] [65, с. 31, 62], аcтрофизикам [15, с. 92] [16, с. 178] [17, с. 82-83] и философам [30, с. 3-190]) удалось теоретически и экспериментально доказать реальность нашего мира с метрикой n=4 пространства-времени, причем с некоторой кривизной. Поэтому отрывок из Евангелия от Матфея, приведенный выше, актуален для всех времен и народов.
«Конкуренция» миссионерских обществ. В уставе «Общества восстановления православного христианства на Кавказе» было прописано два интересных примечания. Так, первое гласило, что деятельность общества не распространяется на Кавказский и Закавказский край. Во втором примечании указывалось, что его деятельность распространяется на Кавказскую епархию, но с исключительной целью обращения в христианскую веру находящихся там язычников. И далее приводилась ссылка на определение Св. Синода от 15-23 ноября 1878 г. под № 1411 [44, с. 56-57]. Миссионерскому обществу разрешалось вести деятельность на Кавказе, но не среди мусульман (в основном, среди калмыков). Данное решение стало фатальным для православной миссии среди адыгов, так как в уставе миссионерского общества хоть и предписывалось возможность миссионерства среди всех горцев Кавказа, но в основном оно занималось только осетинами. Можно лишь предположить, что принятое решение было продиктовано тем, чтобы не «конкурировать» с вновь образованным ставропольским Свято-Андреевским православным братством. Таким образом, в первое десятилетие после войны адыги фактически оставались без православной миссии.
Финансовые проблемы. Еще одним серьезным препятствием, существенно замедляющим православную миссию среди адыгов, была крайняя скудность выделяемых денеж- ных средств на Кавказскую миссию. Этот вопрос не раз поднимался на всевозможных миссионерских съездах, миссионеры жаловались, что на миссию «тратятся жалкие гроши» [6, с. 556-559], но ситуация коренным образом не менялась. По финансовым отчетам Всероссийского православного миссионерского общества за двадцать четыре года им было получено более 4 млн. руб. Все эти средства были собраны исключительно на пожертвования по всей России. Но на Кавказскую миссию тратилось всего лишь от 0,1 до 1,7% от общего бюджета всех миссий [7, c. 12-14] [37, с. 163-164] [47, с. 114-116].
Одной из наиболее серьезных проблем, тормозивших миссионерскую деятельность на Северо-Западном Кавказе, можно считать скудное финансирование ставропольского епархиального Комитета. В периодических миссионерских журналах удалось обнаружить сметы расходов за четырнадцать лет – с 1894 по 1913 гг. (за пять лет – с 1906 по 1910 гг. и за 1912 г. – расходных смет не найдено). Однако даже по имеющимся данным можно без труда установить тенденции, связанные с финансированием миссии.
Анализ работы общества свидетельствует, что в 1894-1895 отчетном году на миссионерскую деятельность на Кавказе было потрачено порядка 300 руб., что составляло всего 0,1% от всех миссионерских затрат. На тот год в православной церкви существовало 9 миссий и 15 миссионерских учреждений. Сумма, выделенная на Кавказское миссионерство, являлась самой минимальной. К примеру, Алтайская миссия получила 34 870 руб. (15%), Иркутская – 24 401 руб. (10,4%), Казанское учреждение – 24 130 (10,3%), Японская миссия – 23 971 руб. (10,2%)… Наиболее близко по сумме финансирования к Кавказскому учреждению находилось Полоцкое – миссионерская деятельность среди латышей в Прибалтике – на него было выделено 370 руб. [50, с. 166-170].
Финансовое положение оставалось без изменений еще в течение четырех лет (с 1895 по 1899 гг.). В этот период сумма, выделенная советом и одобренная собранием миссионерского общества, не превышала 300 руб. в год, что также составляло около 0,1%. Статья, по которой выделялись деньги, звучала следующим образом: «На предмет распространения православного христианства между инородцами епархии» [51, с. 128-132] [52, с. 173-177] [53, с. 152-154] [54, с. 103-104]. Положение начинает меняться в течение двух следующих лет (с 1899 по 1901 гг.), когда финансирование уже названного не Кавказским, а Ставропольским учреждения было увеличено вдвое и составляло 600 руб. в год или 0,2% от всех миссионерских расходов [55, с. 63-64] [56, с. 62-63].
Переломный момент в увеличении финансирования Ставропольского миссионерского учреждения наступил в 1901 г. Так, в 1901-1902 отчетном году сумма увеличивается на порядок – почти в десять раз (!) и уже составляла 5 802 руб. или почти 1,7% от общих миссионерских расходов. Эти ассигнования все равно были недостаточны и ничтожно малы по сравнению с финансированием остальных миссий и учреждений, но все же смогли коренным образом изменить ситуацию и вывести миссию среди адыгов на новый уровень. К примеру, на Иркутскую миссию в это время тратилось 37 145 руб. (10,6%), на Забайкальскую – 32 256 руб. (9,2%), на Алтайскую – 32 175 руб. (9,2%), на Японскую – 25 129 руб. (7,2%), на Казанское миссионерское учреждение – 24 975 руб. (примерно 7,2%)… [57, с. 55-56].
Подобная ситуация с финансированием продолжалась еще примерно четыре года. Данные за 1902-1903 гг. свидетельствуют, что сумма, выделенная на Ставропольское миссионерское учреждение, составляла 6 424 руб. (1,8%) [58, с. 48-49]. В 1903-1905 гг. сумма оставалась прежней – 6 424 руб., и соотношение с финансированием других миссий не менялось, составляя 1,8% [59, с. 57-58] [60, с. 6061]. Снижается, но совсем незначительно, до 5 830 руб., финансирование Ставропольского учреждения в 1905-1906 гг. (1,7% от всех миссионерских трат) [61, c. 99-100].
Далее финансовые отчеты не публикуются, и мы имеем пробел почти в пять лет. Следующая смета расходов, которую удалось обнаружить, была датирована 1911 г. В общей динамике Ставропольское миссионерское учреждение сохранило 1,8% от общих затрат на другие миссии, но в финансовом эквиваленте эта сумма упала почти в два раза и составляла 2 566 руб. Данная тенденция была вызвана общим падением доходов миссионерского общества: если в благоприятные годы они составляли примерно 350 тыс. руб., то в 1911 г. – всего 137 тыс. руб. [4, с. 5-6].
Следующий и последний отчетный год, сведения по которому доступны – предвоенный 1913 г. Он примечателен тем, что впервые не было выделено вообще никаких финансовых средств на Ставропольское миссионерское учреждение, общий доход общества катастрофически сократился и составил около 90 тыс. руб. Это был самый скудный по финансированию год, многие миссии и миссионерские учреждения были закрыты, а оставшимся было сильно урезано финансирование [45, с. 5-6].
Подводя итог финансовой деятельности миссионерского общества за четырнадцать лет по Ставропольскому миссионерскому учреждению, можно выделить четыре этапа. Первый , с 1894 по 1899 гг., когда поступало очень небольшое финансирование в размере 300 руб. На втором этапе, с 1899 по 1901 гг., сумма выросла в два раза – до 600 руб., все равно являясь недостаточной. Третий и самый благоприятный этап – с 1901 по 1906 гг., когда размер поступлений составлял примерно около 6 000 руб. С 1911 г. начинается последний , четвертый этап, который характерен снижением ассигнований до 2 566 руб., а к 1913 г. финансирование было полностью прекращено.
Религиозные реформы начала XX в. Финансовый вопрос был очень актуальным, но самый сильный удар был нанесен православному миссионерству в начале XX в. проведенными религиозными реформами. Под сильнейшим давлением некоторых либеральных министров, в особенности председателя Совета министров графа С. Ю. Витте, император Николай II утвердил три законопроекта, подорвавших монополию на проповедь православной церкви. Это манифест «О веротерпимости» от 26 февраля 1903 г., указ «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» от 12 декабря 1904 г. и закон «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г.
В манифесте «О веротерпимости» приводятся причины, которые подтолкнули к его подписанию: «…смута, посеянная отчасти замыслами, враждебными государственному порядку, отчасти увлечением началами, чуждыми русской жизни, препятствует общей работе по улучшению народного благосостояния. Смута эта, волнуя умы, отвлекает их от производительного труда и нередко приводит к гибели молодые силы, дорогие нашему сердцу и необходимые их семьям и родине…». Манифест оставлял ведущую роль за православной Церковью, но при этом уже декларировал свободу любых исповеданий: «Укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основных законах империи Российской, которые, благоговейно почитая православную Церковь первенствующей и господствующей, предоставляют всем подданным нашим инославных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по обрядам оной» [26, с. 375].
После его принятия положение неправославного населения коренным образом не изменилось, однако данное событие стало своеобразным сигналом к формированию траектории движения российского правительства по данному вопросу. И уже через два года появляется второй законопроект, касающийся вопросов веротерпимости – указ «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» от 12 декабря 1904 г., который имел кардинальное отличие от манифеста 1903 г., только декларировавшего принципы вероисповедания, – в указе эти принципы получили дальнейшее раскрытие, хотя все еще довольно поверхностное. Так, его шестой пункт гласил: «Для закрепления выраженного нами в манифесте 26 февраля 1903 г. неуклонного душевного желания охранять освященную основными законами империи терпимость в делах веры, подвергнуть пересмотру узаконения о правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и независимо от сего принять ныне же в административном порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте их всякого, прямо в законе не установленного, стеснения» [14].
Логическим завершением религиозной реформы стал закон «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., по которому Церковь потеряла жесткое государственное ограждение. Согласно ему, всем подданным предоставлялось право исповедовать любое вероучение, а все религии России уравнивались в правах. При этом доминирующее положение православной церкви в государстве ослабло: но она оказалась единственной среди всех религиозных организаций, сохранившей неразрывную связь с государственным аппаратом. По этому закону отпадение от православной веры в другое христианское исповедание или вероучение уже не подлежало преследованию. Также дозволялось «воспитывать подкидываемых детей в религии принявших их на воспитание иноверных семей». Были признаны «подлежащими пересмотру законоположения, касающиеся важнейших сторон религиозного быта лиц магометанского исповедания» [13, с. 257-258].
Трагичность православной миссии среди адыгов заключалась в том, что она стала «набирать обороты» только на рубеже веков. Всего за несколько лет до подписания трех законопроектов о веротерпимости финансирование православной миссии на Кавказе по линии ставропольского епархиального Комитета возросло в двадцать раз (!), с 300 до 6 000 руб. в год. После же 1906 г. и вплоть до 1910 г. православная миссия среди адыгов приобрела вялотекущий характер. Либеральные инициативы правительства поставили священнослужителей православной церкви в невыгодное положение по сравнению с духовенством других конфессий, те оказались наделены правами свободы совести, а клирики господствующей церкви остались связанными бюрократическими узами государственного аппарата – обер-прокуратуры. Соответственно, духовенство православной церкви было не удовлетворено сложившейся ситуацией. Священнослужители начали открыто заявлять о своем недовольстве положением и желании скорейшего созыва Поместного собора. Он – как высший представительный церковный орган – смог бы решить насущные проблемы [2, с. 14].
Св. Синод своим циркуляром предложил епархиальным архиереям дать отклики на этот указ и его возможные последствия. Многочисленные отзывы показали, что документ рассматривался ими как покушение на права православной церкви, создавая благоприятные условия для инославия и иноверия; в частности, по словам архиепископа Казанского и Свияжского Никанора (Каменского): «Все направлялось к низвержению могущественного положения православия» [67, с. 74] [33, с. 342343]. Но данные критические рекомендации и пожелания об отмене религиозной реформы, высказанные некоторыми архиереями, не были доведены св. Синодом до императора и плачевные результаты не замедлили сказаться. В 1905-1907 гг. в западных областях России «170 тыс. чел. перешли из православия вновь в католичество; 36 тыс. татар и башкиров Поволжья вернулись в ислам; около 10 тыс. чел. перешли в протестантство разных толков» [12]. Но самым главным стало то, что многие миссионеры почувствовали себя преданными государством.
Резюмируя весь комплекс причин, осложнявших православную миссию среди адыгов в период с 1864 по 1917 гг., следует выделить, с одной стороны, очень сложную этнокультурную среду в данный период. Адыги оказались на пике цивилизационного излома: война была проиграна, осуществилось массовое переселение в Турцию – мухаджирство, а те кто остался, имели неоднородное мнение о России. Эти переживания отождествлялись и с православием, которое рассматривалось как синоним «русской веры». Народ имел смешанные религиозные представления, элементами которых являлись: христианские пережитки, нововведения ислама, также большое влияние имел и кодекс адыгэ хабзэ . К этому стоит добавить принятие государственных и церковных указов, оказывающих негативное влияние на христианизацию адыгов. Но все же при некотором отрицательном опыте, описанном в нашей статье, результатом православной миссии стало крещение более 60 человек [36, с. 148]. Это, конечно, не много, но если рассмотреть данное явление не только с исторической, а еще и с духовно-религиозной точки зрения, то и один крещеный – это хороший результат, это спасенная душа, а значит миссия принесла свои плоды.
Список литературы Православная миссия среди адыгов Северо-Западного Кавказа: социокультурные условия, трудности, итоги (1864-1917 гг.)
- Александров А. Д. Замечания к основам теории относительности // Избранные труды в 3-х т. Новосибирск: Наука, 2006. Т.1. С.288-306.
- Бабкин М. А. Русская Православная Церковь в начале XX века и ее отношение к свержению монархии в России. Автореф. дис... д-ра ист. наук. М., 2007.
- Барков Ф. А., Ляушева С. А., Черноус В. В. Религиозный фактор межкультурной коммуникации на Северном Кавказе. Ростов-н/Д: Северо-Кавказский научный центр высшей школы - Южный федеральный университет, 2009.
- Ведомость о суммах православного миссионерского общества за 1911 г. // Православный благовестник (Приложение), 1912. Т. 2. № 21. С. 5-6.
- Вейль Г. Пространство, время, материя. Лекции по общей теории относительности. М.: Янус, 1996.