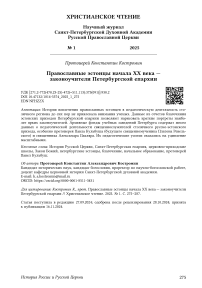Православные эстонцы начала XX века — законоучители Петербургской епархии
Автор: Костромин К.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
История вовлечения православных эстонцев в педагогическую деятельность столичного региона до сих пор не привлекала внимания ученых. Данные из отчетов благочиния эстонских приходов Петербургской епархии позволяют нарисовать краткие портреты наиболее ярких законсучителей. Архивные фонды учебных заведений Петербурга содержат много данных о педагогической деятельности священнослужителей столичного русско-эстонского прихода, особенно протоиерея Павла Кульбуша (будущего священномученика Платона Ревельского) и священника Александра Паклара. Их педагогические успехи оказались на удивление масштабными.
История русской церкви, санкт-петербургская епархия, церковно-приходские школы, закон божий, петербургские эстонцы, благочиние, начальное образование, протоиерей павел кульбуш
Короткий адрес: https://sciup.org/140309278
IDR: 140309278 | УДК: [271.2-772(470.23-25)-472(=511.113):373(091)]:930.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_275
Текст научной статьи Православные эстонцы начала XX века — законоучители Петербургской епархии
Как известно, духовенство дореволюционной России активно участвовало в образовательно-просветительской деятельности в качестве законоучителей в средних учебных заведениях. Примерно на 135 тыс. учебных заведений Российской империи в 1914 г. (Статистический ежегодник 1915, 1916, 144) приходилось 110 тыс. причетников [Лавицкая, 2009, 39], что предполагало, что практически весь причт империи (не только священники) был вовлечен в педагогический процесс. Особенно тесной взаимосвязь духовенства и школы была в городе.
В Петербурге в преподавании Закона Божия было занято практически все духовенство. Законоучители Петербурга распределялись по всем учебным заведениям посредством сношений учебных заведений или их головных организаций с духовной консисторией, подчинялись в первую очередь архиерею, а уже затем, через несколько инстанций, Министерству народного просвещения (см. подр.: [Трофимов, 2020а, 73–75]). Это говорит о том, что назначение всех священно- и церковнослужителей на законоучительские места распределяло епархиальное начальство, и хотя на назначение могло повлиять желание самого священника или руководство учебного заведения (чаще всего назначения были согласованы), епархиальное начальство, включая архиерея, могло решить вопрос с назначением по своему усмотрению.
При том что образ законоучителя был сильно дискредитирован как в общественной публицистике ХIХ в. [Синельников], так и в советской научной, популярной и художественной литературе, существует достаточно примеров и исключительно высокого качества преподавания Закона Божия (см., напр.: [Синельников, 2010, 263–264; Трофимов, 2020б, 220-222; Трофимов, 2022, 14-17]). Учительское дело среди православных эстонцев Петербургской епархии оказалось одним из наиболее успешных, и удивительно, что до сих пор оно не только не изучено, но даже почти не упоминается в научной литературе.
Особенность постановки вопроса обусловлена тем обстоятельством, что эстонцы в дореволюционный период были крайне ограничены в возможностях получить богословское образование, хотя необходимость его получения ощущалась все сильнее (см. подр.: [Пярт, 2018, 240-245]). Поступление на теологический (лютеранский) факультет Дерптского университета для эстонцев было малодоступно, так как там обучались почти исключительно немцы, православный же факультет там появится позднее, после 1917 г. (см.: [Vööbus, 1963, 20–24]). Только с 1907 г. было разрешено преподавание в Дерпте практического богословия на эстонском и латышском языках (РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 773). Рижская семинария была небольшим учебным заведением, и выпускники ее могли оказаться в Петербургской губернии почти исключительно в рамках формирования благочиния эстонских приходов. Преподавание в ней также не велось на эстонском или латышском, хотя процент обучающихся эстонцев и латышей постепенно рос в последние три десятилетия XIX в. Выпускники же семинарии, получившие академическое образование, были крайне немногочисленны, к тому же существовала практика распределять их из столичного региона. Были еще учительские семинарии, выпускники которых в подавляющем большинстве оставались в Прибалтике (см. об этом: [Шор, 2020, 107–128]). Однако потребность в школьном деле была в столичном регионе высока (см.: [Костромин, 2023]). Таким образом, вставал вопрос, во-первых, о замещении должностей учителя Закона Божия в эстонских школах и, во-вторых, о возможностях для эстонцев в преподавании Закона Божия в иных учебных заведениях. В столичном регионе сложилась целая православная эстонская диаспора, которая была требовательна в вопросе языка (см.: [Костромин, 2024]); прежде всего требование к использованию языка касалось богослужения и школьного дела.
Учителя Закона Божия в эстонских церковно-приходских школах
Первостепенным делом отдельного эстонского прихода, учрежденного в Петербурге в 1894 г., было открыть свою церковно-приходскую школу. Она была открыта в 1896 г. (Отчет братства за 1898–1899, 1900, 19), и первоначально в ней преподавал сам молодой настоятель священник Павел Кульбуш. В 1899 г. организация педагогических инициатив храма была передана в руки переведшегося из Эстляндии в петербургский эстонский приход диакона Карпа Эльба [Нестор Кумыш, 2003, 170–171]. Но уже 1900 г. была открыта вакансия в причт эстонского прихода Санкт-Петербурга для совмещения должностей псаломщика и учителя в эстонской школе. В прошении на имя митр. Антония (Вадковского) свящ. Павел Кульбуш писал, что «второй псаломщик должен жить в школе и заведовать ею», поскольку «первый имеет обязанности в церкви и приходе» (ЦГИА СПб. Ф. 19. Oп. 115. Д. 1535. Л. 2). На таковую вакансию был взят выпускник Дерптской учительской семинарии Константин Пуу, переведенный в духовное сословие и имевший псаломнический опыт на приходах в Пюхтице, Геймадре, Каролене и Феллине. В 1913 г. наблюдатели за деятельностью церковно-приходских школ Петербурга упомянули Пуу в числе «наиболее хороших преподавателей» (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 105. Д. 63. Л. 197; Отчет наблюдателя в 1912– 1913, 61). Отец Карп оставался в школе одним из преподавателей [Чижов, Алексеев, 1989, 138–139].
Первоначально, пока школа действовала в съемном помещении, возможность ее роста была сильно ограничена. После того как она переехала в 1904 г. в братский дом, ее возможности сильно выросли и численность учащихся резко увеличилась. Это привело к необходимости найти еще одного законоучителя, каковым с 10 января 1905 г. стал второй священник Исидоровского храма Александр Викентьевич Пакляр . Выпускник Рижской духовной семинарии 1894 г. (он учился на четыре года позже настоятеля) имел довольно богатый педагогический опыт: он служил псаломщиком и учителем церковно-приходской школы Суйсленской церкви Рижской епархии с 1894 по 1897 г., когда был рукоположен в сан священника. Затем стал законоучителем и заведующим всех школ Лаймъяльского прихода с 2 февраля 1897 по 2 марта 1898 г., затем — священником Лайксарской церкви и заведующим всех школ прихода — с 6 марта 1898 по 1900 г., священником Подисской церкви и заведующим всех школ прихода — с 1900 по 1904 г., когда был принят в Петроградскую епархию и определен в эстонский приход (ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 725. Л. 1 об.).
О законоучителях — преподавателях школ при приходах епархии вне границ столицы, сохранились довольно отрывочные сведения. Как известно, школы (в разные годы неодинаково) действовали при эстонских приходах в Луге, Нарве, Кронштадте, Гатчине, Клопицах, Заянье и Волгово, и в основном школами занимался причт (см. об этом: [Костромин, 2023, 199–200]; список храмов и состав причтов см.: [Костромин, 2019а, 199–201]). Главной проблемой, которая очевидна из отчетов о. Павла Кульбуша в консисторию, был кадровый голод. Еще в 1900 г. он отмечал отсутствие толковых учителей или же проблемы с организацией школьного дела. При этом в отчетах он отмечал качественное улучшение и рост школ или же их деградацию, сокращение и закрытие, но при этом почти не упоминал самих законоучителей (иногда отмечал лишь, что имеется учитель или преподает причт1).
С некоторыми не очень умелыми педагогами ему пришлось работать все время пребывания в Петербургской епархии, например с псаломщиком-диаконом Иосифом Лавреньевым, 30 лет прослужившим в эстонском приходе Кронштадта, качества которого еще первоначально в 1900 г. о. Павел охарактеризовал как «неопытность в школьном деле и малограмотность» (при знании эстонского языка) (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 92. Д. 13. Л. 279-298. Цитата — Л. 288). Судя по всему, более чем за 15 лет служения он не сильно преуспел в педагогическом искусстве. Школой занимался в Кронштадте И. Якобсон (см.: [Костромин, 2023, 200]). Тяжело закончилось сотрудничество в Клопицкой школе с учителем Г. Вахтом. «...Отчего смута? — писал о. Павел в одном из отчетов. — Вся заведена уволившимся псаломщиком Вахтом. Поведение его, зазорное и нечистое, когда не удалось исправить и покрыть его христианскими мерами кротости и вразумления, потребовало, во избежание соблазна, удаления его. Но кто ныне блуд считает уже и за грех, особенно для молодых людей, неженатых? Поднялась деревенская молодая кампания псаломщика, присоединились пресловутые клопицкие „освободители“, так называемые местные интеллигенты, и начали писать прошения. Выжили-де русского иерея, для них неудобного (о. Сергия Тихомирова), выживем и этого» (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 100. Д. 44. Л. 1 об.).
Однако встречались и хорошие педагоги, которые иногда отмечались и на общеепархиальном уровне. Так, в 1909 г. особенно хорошо потрудился законоучитель Гатчинской Успенской эстонской церкви Царскосельского уезда священник Карп Лам-берг (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 102. Д. 40. Л. 414 об.; Отчет наблюдателя в 1908–1909, 1909, 14). Отец Карп родился 15 сентября 1876 г., окончил Рижскую духовную семинарию по второму разряду в 1898 г. С 8 июля 1898 г. служил псаломщиком в Феллинской церкви Рижской епархии, с 17 октября 1902 по 1919 г. — в Гатчинском эстонском приходе Петербургской епархии (с 1904 г. — председатель местного эстонского церковноприходского попечительства). С 1907 г. трудился законоучителем Гатчинского женского городского училища и Мозинского министерского училища, заведовал и был законоучителем местной эстонской церковно-приходской школы (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 106. Д. 47. Л. 4 об.). В 1920 г. перебрался на приход св. Захарии и Елизаветы в городе Ряпина в Эстляндии, в 1927 г. возведен в сан протоиерея, скончался 8 мая 1931 г. [Lemberg].
В 1913 г. в числе «наиболее потрудившихся» заведующих школами и законоучителей, помимо о. Карпа Ламберга, были названы также священник Иоанн Гаусваль-тер , служивший в эстонском приходе Луги, и священник Константин Колчин , всю жизнь прослуживший в Нарве (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 105. Д. 63. Л. 191; Отчет наблюдателя в 1912–1913, 49). Последнему отец Павел Кульбуш дал яркую характеристику, хорошо дополняющую его портрет [Колчин]: «Но что же такое сам о. Колчин? Это человек характера независимого, прямого, если угодно — есть гордость, не в худом смысле, а в виде сильно развитого самосознания; замечается некоторого рода брезгливость по отношению к делам в нравственном отношении сомнительным; если на него идут натиском или с нечестными средствами, он скорее смолчит и отойдет, но отвечать тем же побрезгует. Исключаются, конечно, случаи, когда человек совершенно может быть выведен из себя. Ума и тактичности, юношеского благородного пыла у него больше, чем сколько нужно для провинциального иерея; церковь, богослужения он любит искренне. …Нарва, жители города его держат в большой чести. Центр промышленной Нарвы — тамошние мануфактуры, и законоучитель в школе их, по избранию администрации — он. Он же руководитель общества трезвости при мануфактуре, по выбору трезвенников. Городская дума, из всех нарвских иереев, именно его, несмотря на то, что не на русском приходе, избрала в комиссию по заведыванию благотворительными капиталами города и в Совет Дома Трудолюбия. Наконец, соборный причт формально жалуется на то, что о. Колчин исправляет требы у русских. Это правда, и не только у прихожан их, но даже у военных. Indeira2. В Нарве иереев конечно много для такого городка, и стоит одному лишь выделиться, как другим уже тесно. Но факт тот, что о. Колчин для Нарвы более, чем рядовой священник» (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 100. Д. 44. Л. 3–3 об.). Еще до открытия церковно-приходской школы в Нарве о. Павел видел заведующим и законоучителем в ней только о. Константина (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 92. Д. 13. Л. 279–298, особ. Л. 288).
Еще одним ярким священником-законоучителем был священник Николай Симо , будущий новомученик, настоятель эстонской Крестовоздвиженской Кронштадтской церкви, преподаватель с 1897 г. Законоучителем в школе при приходе он трудился с 1901 г., а с 1907 г. стал заведующим и всей школы (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 107. Д. 47. Л. 2 об.). В этом ему помогала полученная в 1902 г. степень кандидата богословия, а также преподавательская деятельность вне храма [Нестор Кумыш, 2003, 200].
Эстонцы как педагоги вне эстонских школ
Сразу после определения священником в новообразованный эстонский столичный приход священник Павел Кульбуш был определен законоучителем в Литейную женскую гимназию Петербурга (Бассейная ул. (ныне — ул. Некрасова), 15) [Пашкова, 2015, 227], где и преподавал с 15 сентября 1895 г. по 1917 г. (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 931. Л. 12). Основной состав учащихся — дочери дворян и чиновников. Отцу Павлу приходилось довольно далеко ездить, так как сначала он снимал квартиру на Серпуховской улице (см.: [Костромин, 2019б, 200]), а затем переехал в братский дом при своем храме на Екатерингофский пр. (ныне — пр. Римского-Корсакова), 24. С 31 октября 1897 г. как минимум до 1907 г. о. Павел входил в состав Хозяйственного комитета Литейной женской гимназии (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 220. Л. 46; Д. 16. Л. 47а; подпись под одним из протоколов комиссии: ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 16. Л. 27 об.).
Сохранились довольно подробные сведения о его учебной нагрузке и жаловании:
|
Нагрузка |
Жалование |
|
|
1897–1900 гг.3 |
16 уроков в неделю |
960 руб. в год |
|
Второе полугодие 1901–19044 и 1907–1908 гг.5 |
14 уроков в неделю |
840 руб. |
|
1910 г.6 |
10 уроков в неделю |
600 руб. |
|
1912 г. |
8 уроков в неделю |
|
|
1916 г.7 |
6 уроков в неделю |
510 руб. (?)8 |
|
1917 г.9 |
8 уроков в неделю |
Как видно из таблицы, размер учебной нагрузки у о. Павла постоянно сокращался, однако и 8 уроков в неделю — это весьма заметный объем учебных занятий. Количество уроков сокращалось по мере открытия в 1900 г. благочиния эстонско-русских приходов и затем назначения о. Павла благочинным (см.: [Шкаровский, 2018; Костромин, 2019а]), освящения в 1907–1908 г. Исидоровского храма и начала активной приходской деятельности (см.: [Чижов, Алексеев, 1989, 137]), тяжелой болезни в 1912 г. (см.: [Костромин, 2018, 48]). Весной 1917 г. учебная нагрузка о. Павла даже немного возросла, так как он взял дополнительный класс в гимназии взамен ушедшего прот. Николая Сахарова, и при этом за весенний семестр пропустил (по служебным обязанностям) всего один день — 15 апреля (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 19310. Л. 1 об. — 2). При этом в 1907–1908 г. и, нужно думать, в предшествующие годы он преподавал весь цикл Закона Божия от первого до седьмого класса. Во всяком случае, в 1907–1908 г. в нагрузке о. Павла числились все классы «б» с I до VII класса (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 46. Л. 48, 50). Позднее, по мере сокращения нагрузки, цикл стал неполным: в 1910 г. он уже не преподавал в V и VI классах «б» (ЦГИА СПб. Ф. 271.
Оп. 1. Д. 46. Л. 56). А в 1912 г. классы перемешали: теперь у него числились I «б», VI «а», VI «б», VII «б», то есть начальный и старшие. Если сопоставлять с 1910 г., получается, что средние классы IV «б» и V «б» были закреплены за ним: в 1911-м он должен был вести Закон Божий в V и VI и в 1912-м вел его в VI и VII классах. В 1917 г. его классами были VIII славянский, II «a» и II «б» (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 931. Л. 12). А всего православных законоучителей в 1916–1917 г. было трое (а также лютеранский пастор, католический ксендз и раввин)10. Каждый год в специальном листе делалась запись о прохождении курса11. При этом ездить в гимназию приходилось практически ежедневно. Вот пример расписания уроков на 1916 г. у о. Павла (6 уроков в неделю) (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 931. Л. 19 об., 20 об.):
|
VIII слав. |
II «а» |
II «б» |
|
|
Понедельник |
3-й урок |
2-й урок |
|
|
Вторник |
12:40–1:40 |
||
|
Среда |
11:00–12:00 |
||
|
Суббота |
4-й урок |
5-й урок |
Преподавание в гимназии было заметным финансовым подспорьем. Выше приведены суммы от 960 до 510 руб. годового дохода от преподавания уроков Закона Божия. Для сравнения, официальный годовой доход настоятеля русско-эстонского прихода равнялся 1200 руб. в год (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 86. Д. 33. Л. 8), а сельские законоучители Центральной России получали максимум 500 руб. (см.: [Кошина, 2017, 65]), то есть в первые годы деятельности в Петербурге школа приносила ненамного меньше, чем служение настоятелем храма. При этом в школе бывали и незапланированные денежные выплаты. Так, на Рождество 1897 г. свящ. Павлу Кульбушу было выдано 78 руб. пособия — это чуть ли не самая крупная сумма пособия (больше — 84 руб. — получил только один преподаватель, и еще один — столько же) (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 16. Л. 8)12, за усиленные занятия в 1897 г. о. Павлу было выдано пособие в 94 руб. (такие пособия выданы только двоим) (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 16. Л. 9). Пособие к Рождеству 1903 г. для о. Павла составило уже 90 руб. (такую сумму получили еще три преподавателя, остальные — меньше) (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 16. Л. 38 об.). Дополнительный доход давало и участие в экзаменах. Так, за проведение экзаменов в 1903 г. ему было выдано 3 руб. 55 коп. — самый большой гонорар (такой же получило еще 7 человек из 20 преподавателей) (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 16. Л. 33). В 1906 г. прот. Павел Кульбуш получил за экзамены 9 руб. (согласно списку — это очень мало) (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 205. Л. 6), в 1907 г. — 23 руб. 35 коп. — больше остальных законоучителей (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 205. Л. 12. Примеры ведомостей с подписью о. П. Кульбуша — Л. 34, 38). В 1908–1910 г. за дополнительные 10 уроков было выплачено по 50 руб. каждый (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 46. Л. 54 об., 60 об., 62 об., 64 об.; в 1909 г. — и за первое, и за второе полугодие). Правда, начало трудовой деятельности новых законоучителей в гимназии сопровождалось, наоборот, выплатой в пользу гимназии «по случаю утверждения их на действительной службе» — 140 руб. в 1898 г. с троих законоучителей (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 220. Л. 65 об.).
Организация учебного процесса имела и ряд формальностей. Руководство выпус кало для преподавателей распоряж ения, ознакомление с которыми было обязательно.
Так, в 1905 г. свящ. Павлу Кульбушу, как и другим преподавателям, выдали на ознакомление «выписку действующих узаконений, которые могут иметь применение в случаях нарушения должностными лицами служебного долга» (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 93 об. Имеется подпись на последнем листе). Подпись о. Павла есть и на циркуляре о запрете участвовать в революционных партиях (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 5. Л. 120). Преподавательская деятельность предполагала, помимо проведения занятий, также посещение педагогических конференций, собиравшихся, как правило, с октября по май, иногда с периодичностью до раза в неделю (частота их увеличивалась к проведению испытаний после очередного этапа обучения). Протоиерей Павел Кульбуш довольно редко участвовал в педагогических конференциях (на них чаще всего речь шла об успеваемости и поведении, переводе и приеме воспитанниц). Подпись под протоколами или упоминание среди присутствующих сохранились под следующими датами: 3 ноября 1895 г., 12 марта, 20 декабря 1896 г., 31 октября, 19 декабря 1897 г., 26 марта, 30 октября, 18 декабря 1898 г., 5 апреля, 30 апреля, 20 мая, 21 декабря 1899 г., 21 апреля, 28 апреля, 30 мая, 12 октября 1900 г., 22 марта, 1901 г., 30 апреля, 12 сентября 1902 г.13, 31 октября 1903 г., 18 марта, 21 декабря 1904 г., 12 мая, 25 августа 1905 г.14, 15 апреля 1906 г.15, 17 марта, 18 мая 1907 г., 22 марта, 18 мая, 23 мая 1908 г., 19 марта, 15 мая, 19 декабря 1909 г., 21 мая, 25 октября, 20 декабря 1910 г., 1 марта, 17 мая, 23 августа, 20 сентября 1911 г., далее перерыв по причине болезни, 9 мая 1913 г.16, 13 марта, 13 мая, 7 ноября 1915 г., 26 августа, 21 сентября, 25 октября 1916 г., 22 марта 1917 г.17 18 февраля 1908 г. вечером о. Павел среди других законоучителей Ведомства учреждений Императрицы Марии был в Мариинской гимназии на собрании законоучителей для пересмотра программы преподавания Закона Божия (ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 16. Л. 68).
От 1903 г. сохранились сведения о преподавании свящ. Павлом Кульбушем Закона Божия и в женской гимназии А. А. Макалютиной, где он преподавал вместе с магистром богословия прот. Федором Ставровским. Вдвоем они преподавали там церковную историю, катехизис и богослужение. Надо думать, что преподавать в дополнение к основной педагогической нагрузке о. Павел стал только потому, что школа располагалась совсем близко к Литейной гимназии — на Литейном пр., 24, а затем на Бас-сейной ул. (ныне — ул. Некрасова), 42, в соседнем квартале с гимназией. Сведений о деятельности в ней о. Павла почти нет. Гимназия просуществовала с 1900 по 1906 г. [Пашкова, 2015, 248]; (РГИА. Ф. 733. Оп. 191. Д. 1944; Ф. 759. Оп. 25. Д. 1210), в 1907 г. Ма-калютина вышла на пенсию (РГИА. Ф. 740. Оп. 22. Д. 201). При проверке преподавания законоучительских дисциплин в 1903 г. результаты, полученные девочками гимназии Макалютиной, были заметно выше средних по городу, а характеристика ответов учащихся не содержала критики («отвечали свободно, правильно, помощи и ходатайства не было») (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 94. Д. 54. Л. 27 об.), что было очень высокой оценкой педагогической деятельности священников.
В 1913 г. отец Павел был отмечен в числе наиболее потрудившихся заведующих школ и законоучителей по Петербургской епархии (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 105. Д. 63. Л. 191; Отчет наблюдателя в 1912–1913, 1914, 49) и был внесен в список лиц, имеющих право на ношение юбилейной медали в память 300-летия Дома Романовых (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 13850. Л. 1).
Выше говорилось, что священник Александр Викентьевич Пакляр состоял законоучителем в церковно-приходской школе при эстонском приходе. Но его педагогическая деятельность в дореволюционный период была куда более широкой: помимо нее, он также с 1 сентября 1906 по 10 января 1911 г. был законоучителем в 1-м Нарвском с тремя классами женском начальном городском училище в Петрограде, с 6 октября (по другим данным — с 14 ноября) 1909 г. — образцового приюта барона Штиглица18, а также частных женских гимназий Наталии Георгиевны Прохоровой (с 1 сентября 1909 г.19 по крайней мере до 1916 г. включительно (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 15184. Л. 4)20) и Зои Александровны Родионовой (с марта 1912 г. (ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 725. Л. 2 об.))21. Две из этих школ располагались сравнительно близко от места проживания (а о. Александр, как только был достроен братский дом, переселился в него), а в одну из них приходилось ездить на Васильевский остров.
Истории этих учебных заведений не написаны, а 1-е Нарвское женское училище даже не упоминается в справочниках. В гимназии Н. Г. Прохоровой в 1912/1913 г. из 89 (1 полугодие) / 85 (2 полугодие) учащихся 65 / 61 были православными (при 3 католичках, 17 протестантках и 4 иудейках) (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 13496. Л. 3). В 1913/1914 г. в школе было 94 (1 полугодие) / 96 (2 полугодие) учащихся, из которых 64 / 67 православных (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 14056. Л. 2, 4). На конец учебного 1914–1915 г. в гимназии Прохоровой на о. Александра приходилось 120 учащихся православного вероисповедания (при 7 католичках, 16 протестантках и 13 иудейках) (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 15661. Л. 1 об. — 2). Он вел 2 урока в 1 классе (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 15661. Л. 2 об.).
Священник Александр Пакляр был чуть ли не единственным мужчиной-преподавателем в гимназии З. А. Родионовой. Здесь на него (старшие классы) и диак. Т. И. Спустникова (выпускник Петроградской духовной семинарии, преподавал в младших классах) приходилось 147 православных учащихся при 8 католичках, 4 протестантках и 1 иудейке в 1916 г. (во всех классах) (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1.
Д. 15666. Л. 2). Отец Александр преподавал в первом полугодии 1916 г., во втором его сменил диакон Покровской церкви Тимофей Иванкович (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 15666. Л. 4, 5, 12). На нач. 1916 г. оклад о. Александра составлял 360 руб. в год (ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 19389. Л. 4)22.
Характеристика, данная свящ. Александру Пакляру директором приюта И. А. Люк-сингером и поддержанная инспектором Санкт-Петербургского совета детских приютов В. Ф. Мушниковым, была очень высокой: свящ. Александр Пакляр «во все время своей службы оказался не только отличным преподавателем Закона Божия, но и, принимая самое усердное участие в всем, касающемся до жизни приюта, — имеет отличное влияние на нравственность детей и всегда находит возможность помочь и идти навстречу потребностям приюта». Именно за эту деятельность в 1914 г. он был награжден орденом Св. Анны 3 степени (ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 2721. Л. 4). Положения указа Св. Синода от 31 августа 1910 г. за № 28 о религиозно-нравственном воспитании учащихся в средних школах и об участии законоучителей в сем деле «были им в полной мере исполнены» (Отчет совета детских приютов за 1911, 1912, 6–11). Будучи знакома с педагогической работой отца, его старшая дочь Нина пошла учиться в Петроградский педагогический институт.
С 1897 (ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 2. Д. 238. Л. 50. Определение митр. Палладия от 20 ноября. Исх. 11 декабря) по 1909 г. в Образцовом приюте барона Штиглица Закон Божий преподавал священник Иоанн Романович Сарв , также эстонец (ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 2721. Л. 1)23, трудившийся также Никольском двухклассном женском училище, в городских начальных училищах, в школе при Императорском женском патриотическом обществе (см.: [Нестор Кумыш, 2003, 200]). Преподавание свящ. Александра Пакляра в приюте началось с того, что в 1909 г. на Педагогическом совещании 29 ноября был пересмотрен подход к преподаванию Закона Божия в приюте. Возможно, что изменение условий было одной из причин ухода о. Иоанна. Теперь законоучители перестали предоставлять подробную программу по классам, поскольку отныне преподавали не в определенных классах, а брали класс с начала и вели его по всей программе до выпуска, преподавая, таким образом, в течение нескольких лет полный цикл (ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 2. Д. 493. Л. 10–10 об.). В 1911 г. в приютах была введена гимнастика вместо одного урока Закона Божия, с чем законоучители согласились. Также они взялись разработать краткое последование утренних молитв, так как до 1911 г. на утренней молитве читались, кроме нескольких молитв, еще Евангелие и Псалтырь, на что уходило 20 минут и что было «признано обременительным для детей» (ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 2. Д. 493. Л. 18 об.)24. С 24 января 1915 г. вторым законоучителем (сотрудником законоучителя) в приюте стал диакон Карп Эльб , состоявший также законоучителем «в городских и местном приходском училищах» (ЦГИА СПб. Ф. 411. Оп. 3. Д. 4240. Л. 1, 3, 5)25. Последний считался известным петербургским педагогом (см. о нем: [Нестор Кумыш, 2003, 167–169, 171–173]). Одна из его дочерей пыталась учиться в Женском Педагогическом институте, однако в 1916 г. по причине сложного материального положения вынуждена была оставить учебу. Возобновила обучение в 1923 г. (ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5222. Л. 1, 5).
Говорить о законоучительстве других священников благочиния эстонских приходов за неимением надежных сведений трудно. В некоторых случаях можно только упомянуть факт их деятельности. Так, предшественник о. Павла Кульбуша по окорм-лению столичных эстонцев, служивший то в Кронштадте, то в Гатчине священник
Адам Симо с 1903 как минимум до 1915 г. трудился законоучителем Мошковской земской школы (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 104. Д. 69. Л. 4 об.). Его сын, упоминавшийся выше настоятель кронштадтского эстонского прихода священник Николай Симо был законоучителем Кронштадтской школы при таможне (см.: [Нестор Кумыш, 2003, 136]). Выше упоминалось также, что священник Карп Ламберг состоял законоучителем Гатчинского женского городского училища и Мозинского министерского училища (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 106. Д. 47. Л. 4 об.), а священник Константин Колчин был законоучителем школы при Кренгольмской (Нарвской) мануфактуре (см.: [Odell, 1912, 35–36]).
Выводы
Педагогическая деятельность, бывшая неотъемлемым, но рутинным элементом священнического служения, была в эстонской православной диаспоре развита очень сильно. По-видимому, основной причиной особого внимания к ней были малая доступность не только образования, но и просвещения для эстонского населения в годы, когда формировались взгляды духовенства благочиния эстонских приходов (за исключением священников Адама Симо и Федора Кульдсара, это были молодые священники, в нач. ХХ в. им было около 30 лет). Получение даже начального образования давало мощный потенциал для рывка по социальной лестнице, поэтому к кон. ХIХ в. в эстонской среде сформировалась жажда просвещения и образования. Кроме того, в течение последних десятилетий XIX в. в Эстляндии активно формировалась сеть школ, значительная часть которых, созданная местными приходскими братствами, была уже объединена и получала значительную поддержку от Православного Прибалтийского братства (Двадцатипятилетие, 1907, 5–7).
Источники дают возможность в общих чертах описать педагогическую деятельность в эстонской церковно-приходской школе при Свято-Исидоровском храме, а также составить краткие портреты нескольких священников-педагогов благочиния, однако и портреты эти очень неполны, и сопоставить их со школьным делом не всегда возможно. Благочинный прот. Павел Кульбуш уделял кадровому вопросу именно в школьном деле особое внимание, так что к началу Великой русской революции, к 1905 г., школы уже демонстрировали первые успехи, а педагогической деятельностью занимались подававшие надежды священники и учителя.
Особенно впечатляющую картину удалось восстановить в отношении педагогической занятости духовенства столичного эстонского прихода. Сохранившиеся документы Литейной женской гимназии, в которой преподавал прот. Павел Кульбуш, позволили выяснить динамику изменения его нагрузки, заработной платы, участия в педагогических конференциях и некоторые другие детали. Объем педагогической нагрузки отца Павла впечатляет, особенно если учесть труды по постройке храма, совершению богослужений, служения благочинным, огромную общественную нагрузку в столичных братствах и обществах. При этом, судя по отзывам, педагогическое ремесло давалось ему легко и имело успех. Представить более или менее точные объемы педагогической деятельности свящ. Александра Пакляра значительно труднее, однако количество учебных заведений, где ему довелось преподавать, отзывы и награждение орденом дают основание для высокой оценки его педагогических трудов и способностей. Кроме того, педагогическая деятельность составляла существенную (до половины) долю совокупных годовых доходов обоих. Как ни странно, объем сохранившейся документации не дает возможности подтвердить хвалебную характеристику диак. Карпа Эльба как «известного педагога», данную ему игум. Нестором (Кумышом). Ни документов, более или менее полно отражающих его педагогическую деятельность, ни сведений о наградах за учительский труд, ни свидетельств об этом сторонних наблюдателей обнаружить пока не удалось. В представленной картине его педагогические успехи существенно скромнее, нежели те, которые демонстрировали священники столичного храма.
Учитывая национальную принадлежность эстонцев-педагогов, их эстонскую идентичность, которую они старались подчеркивать, черты национального характера и особенности среды, в которой им довелось сформироваться, они стали ярким и самобытным явлением на педагогическом поприще столицы Российской империи.