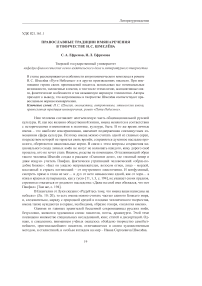Православные традиции имянаречения в творчестве И. С. Шмелёва
Автор: Ефремов Сергей Анатольевич, Ефремова Ирина Львовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности антропонимического комплекса в романе И. С. Шмелёва «Пути Небесные» и в других произведениях писателя. При именовании героев своих произведений писатель использовал все потенциальные возможности, заложенные в имени, в том числе этимологию, ассоциативные связи, фонетические особенности и так называемую народную этимологию. Авторы приходят к выводу, что антропонимы в творчестве Шмелёва соответствуют православным нормам имянаречения.
И. с. шмелёв, ономастика, антропонимы, этимология имени, православная традиция имянаречения, роман "пути небесные"
Короткий адрес: https://sciup.org/146122071
IDR: 146122071 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Православные традиции имянаречения в творчестве И. С. Шмелёва
Имя человека составляет неотъемлемую часть общенациональной русской культуры. И, как все явления общественной жизни, имена меняются в соответствии с историческими изменениями в политике, культуре, быте. В то же время личные имена – это наиболее консервативная, наименее подверженная сиюминутным изменениям сфера культуры. Поэтому имена можно считать одной из главных скреп, посредством которой не теряется связь времён, сохраняется духовное наследие прошлого, оберегаются национальные корни. В связи с этим вопросы сохранения национального свода личных имён не могут не волновать каждого, кому дорого своё прошлое, кто не хочет стать Иваном, родства не помнящим. Отталкивающий образ такого человека Шмелёв создал в рассказе «Смешное дело», где «полный невер и даже кощун» учитель Панфил, фактически утративший человеческий «образ-подобие Божие»: «Был он ужасно непривлекателен, волосом огнен, лицо – мордой, косолапый и страсть потнеющий – от внутреннего ожесточения. И конфузливый, смотреть прямо в глаза не мог… и дух от него невыносимо едкий, как от хоря… а кожа в красных пупырышках, как у гуся» [11, т. 3, с. 194], не уважает своих предков, стремится отказаться от родового наследства: «Даже на своё имя обижался, что вот Панфил» [Там же, с. 194].
В Евангелии от Луки сказано: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10: 20), то есть имена можно считать частью единого Божьего мира, и, следовательно, наряду с природной средой и плодами человеческого творчества, имена также нуждаются в охране, необходима, образно говоря, «экология имени».
Одними из главных хранителей бесценной сокровищницы русских имён, безусловно, являются художники слова: писатели, поэты, драматурги. Этой теме посвящено множество специальных исследований, книг, статей и диссертаций. Однако, к сожалению, вниманием учёных оказалось обойдено творчество самобытнейшего, оригинальнейшего писателя, отличавшегося и своим художественным методом, и стилистикой, и особым взглядом на мир – Ивана Сергеевича Шмелёва.
Будучи, по мнению критиков, писателем консервативного толка (некоторые считают это достоинством Шмелёва, другие, наоборот, видят в этом его большой недостаток), Шмелёв стремился к сохранению того духовного богатства, который русский народ создал за тысячелетие своей православной истории. В полной мере это относится и к русским именам. О том, насколько важно было для Шмелёва правильное, неискажённое русское имя, говорит его обширная переписка, в первую очередь – с Ольгой Александровной Бредиус-Субботиной и с Иваном Александровичем Ильиным. В своих письмах писатель неоднократно обращался к теме антропонимов, откровенно выражал свою точку зрения на то, как следует выбирать имена для человека, что он считает главным в имени, и даже проводит некоторые интересные этимологические исследования.
В отношении к ономастике Шмелёва следует считать писателем классическим, продолжателем традиций имянаречения, сложившихся в русской литературе, суть которых отлично выразил П. А. Флоренский: «…объявление всех литературных имён вообще, – имени как такового, – произвольными и случайными, субъективно придумываемыми и условными знаками типов и художественных образов, было бы вопиющим непониманием художественного творчества» [9, с. 181]. К поиску наиболее соответствующих авторскому замыслу поэтонимов Иван Сергеевич всегда подходил творчески, в его выборе антропонимов (так же как и топонимов) ярко проявляется мастерство подлинного художника слова. В творчестве писателя встречаются практически все виды, варианты и вариации русских личных имён, выделяемые литературоведением. Это и «говорящие имена», и национальные идентификаторы, и прозвищные именования, и т. д.
Один из ведущих специалистов по русской ономастике С.И. Зинин выделяет три традиционно сложившихся в России принципа, согласно которым называли младенцев: «Выбор личного имени определяли календарём и стремлением назвать ребёнка по имени отца и матери, также влиянием моды» [3, с. 10–11].
Целый ряд фактов убедительно свидетельствует, что для Шмелёва было совершенно неприемлемо такое явление, как экзотические, модные имена. Подтверждение этому мы видим, в частности, в одном из писем Бредиус-Субботиной, где он критически относится к западной манере давать детям двойные и тройные имена. Как барская блажь воспринимается приказ именовать Соньку Лупоглазую Сафо в повести «Неупиваемая чаша»:
«А когда стал на власть молодой барин, взял её из девичьей в покои, на особое положение, и приказал называть её всем – Сафо. Так и звали, подлащивались к новой любимице, а меж собой стали звать – Сова Лупоглазая. Даже Спиридош-ка-повар, Сонькин отец, передавая ей блюдо с любимым кушаньем барина – бараньими кишками с кашей, говорил уважительно:
– Пожалуйте вам, Сафа Спиридоновна, кишочки» [11, т. 1, с. 388].
Следует отметить, что в восприятии русского человека одна из важнейших функций антропонима – быть национальным идентификатором. Прежде всего это относится к фамилиям. Поскольку фамилия представляет собой родовое именование и её трудно поменять, она служит ясным указателем, какого «рода-племени» человек, где его «корни» и какими присущими той или иной нации особенностями характера он обладает. Шмелёв в своём творчестве неизменно не только учитывал, но и всячески подчёркивал, в том числе с помощью поэтонимов, национальность героев. В «Путях Небесных» он так знакомит читателя со своим героем: «Виктор Алексеевич Вейденгаммер происходил из просвещённой семьи, в которой перемешались вероисповедания и крови: мать его была русская, дворянка; отец – из немцев, давно обрусевших и оправославившихся» [Там же, т. 5, с. 18]. Шмелёв специально объясняет историю происхождения явно нерусской фамилии Виктора Алексеевича, делая акцент именно на том, что, несмотря на немецкую фамилию, отец его уже «давно обрусел и оправославился».
Другой герой романа «Пути Небесные», ювелир голландского происхождения Франц-Иоганн Борелиус, на старости лет принял православие, и уже по-особому, на русский манер начинает восприниматься и его имя: «Звать его, это точно, Франц Иваныч» [Там же, с. 412]. Перемена веры сказалась даже на внешнем облике бывшего кальвиниста: «Совсем русский старик-монах!.. Куда девался былой Франц-Иоганн Борелиус, розовощёкий, бритый, в длинном сюртуке пастора, в высоких воротничках, замкнутый, как сохранилось в памяти с юных лет?..» [Там же, с. 415].
Однако Шмелёв показывает и обратный процесс, когда православный человек забывает про родное: «По крещенью-то она Елена, а они её назвали… Ро… Ло-ре-лей, – батюшка объяснил, что это языческая богиня», – с осуждением говорит о модных веяниях герой рассказа «Смешное дело» [11, т. 3, с. 193].
Но если фамилия сама по себе консервативна и может существовать достаточно долгое время, то личные имена более подвержены переменам, влиянию моды и других внешних обстоятельств. Самая же главная опасность – и её прекрасно понимал Шмелёв – это утрата тех основополагающих, фундаментальных принципов, на которых строилась вся система русских личных имён. Это уже указанные Зининым календарные и родовые имена. Все они восходят к христианской традиции, и именно православной традиции Шмелёв придерживался весьма последовательно на протяжении всего творчества. Когда Ивана Сергеевича причисляют к писателям «духовного реализма», когда говорят, что он «глубоко и полно воссоздал целостное православное мировоззрение» [5, с. 365]. отобразил «своеобразие православного образа мира, православного менталитета» [1, с. 6], то это относится и к авторской системе имянаречения героев. В «Путях Небесных» Шмелёв весьма последовательно соблюдает православные (именно православные!) традиции, ничто не ускользает от его внимания, каждая, на первые взгляд, несущественная мелочь получает своё место в структуре романа, каждая деталь имеет своё значение. Безусловно, это относится и к именам героев произведения.
Основной принцип, принятый в православии, состоит в том, чтобы, по рекомендации Иоанна Златоуста, не «называть детей именами случайными <…> но именами мужей святых, просиявших добродетелью» [2]. То есть речь идёт о том, чтобы имена давались в честь конкретных святых, почитаемых Церковью. Считается, что тот святой, имя которого носит человек, служит его хранителем. Так, в романе «Лето Господне» Горкин укоряет мальчика Ваню: «А вот зачем ты на Гришу намедни запле-вался? <…> И у него тоже Ангел есть, Григорий Богослов, а ты… За каждым Ангел стоит, как можно… на него плюнул – на Ангела плюнул!» [11, т. 4, с. 213].
Сам процесс имянаречения в православии является неотъемлемой, составной и очень важной частью обряда крещения – акта сакрального, вводящего человека в сферу духовного, христианского, вечного.
Для России, изображённой в романе Шмелёва, крещение было не только обычным, но и обязательным в жизни каждого православного ритуалом, естественным и привычным настолько, что этот обряд, как и многие другие обыденные, бытовые события, редко попадал в поле внимания русских писателей. Лишь случаи исключительные, когда крещение сопровождалось либо какими-то необычными явлениями-знамениями (сатирическая сцена крещения деда Щукаря в «Поднятой целине» М. Шолохова), либо когда крестился уже взрослый человек (как поляк Ан-дрон в романе «Ватага» В. Шишкова), этот обряд становился предметом художественного изображения.
Создавая православную картину мира, Шмелёв не мог упустить такое важное для каждого христианина событие, как крещение. Этому в «Путях Небесных» посвящена значительная часть главы с символическим названием «У колыбели», где рассказывается о поездке главной героини Дариньки Королёвой в места, связанные с её рождением. «В «записке к ближним» Дарья Ивановна писала: «…Были в храме Богоявления в Елохове, где меня крестили» [Там же, т. 5, с. 372].
Шмелёв показывает, с каким особым чувством героиня романа прикоснулась к купели, в которой её крестили:
«На выходе Даринька оглянула притвор и увидала в заломчике чего искала: крестильную купель, накрытую ветхой пелёнкой. <…> Стояла в умилённом ожидании. Пришла старушка, открыла помятую оловянную купель и сказала, что купель старинная, до француза была… Спросила Дариньку:
– Вас, барышня, тут крестили, у нашего Богоявления? Ну, в самой этой, другой и нет. В самую эту и кунали. А теперь вон красавицы какие!». Даринька «опустилась перед купелью на колени и приложилась к закраинке» [Там же].
Известно, что русские писатели часто включали в сюжеты своих произведений эпизоды, связанные с именованием героев, например, Гоголь в «Шинели», Горький в «Жизни Клима Самгина» и в ряде других. Но редко кто из них выражал православную традицию столь явно и открыто, как Шмелёв, кто бы так подробно, в мельчайших деталях показывал весь сложный процесс воцерковления, обретения веры, который начинается именно с момента крещения и неразрывно связанного с ним тезоименитства.
Большинство героев «Путей Небесных» – православные люди, которые получили свои имена в строгом соответствии с христианским каноном: в честь того святого, чья память отмечалась в ближайшие к крещению дни. Своё мнение об имянаречении Шмелёв вполне определённо выразил в одном из писем Бредиус-Суббо-тиной: «Самое правильное: давать имя святого дня рождения или близкого к нему. Касьян – будь Касьяном. Со мной поступили правильно. А тебя бы – Феодосия! И писал бы я тебе, – милая моя Фео! А бранил бы – Доська!» [10, с. 261].
Шмелёв весьма точен и последователен в именовании героев своих произведений, их имена чётко приурочены к конкретному, реальному дню почитания святого. Так, в повести «Неупиваемая чаша» говорится: «Анастасия Ляпунова, по роду Вышатова. Родилась 1833 года майя 23…» [11, т. 1, с. 381]. Заглянув в церковный календарь, мы узнаём, что 28 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Анастасии Латрийской, в честь которой и названа героиня.
Повесть «Росстани» начинается с того, что «десятого июля справляли именины Данилы Степаныча, а заодно и Ольги Ивановны, невестки» [Там же, с. 157]. Именно 10 июля день памяти мученика Даниила Никопольского, а 11 июля – равноапостольной Ольги, во Святом Крещении Елены, великой княгини Российской.
Эта норма соблюдается и в «Путях Небесных», где можно с большой долей уверенности определить, в честь какого святого назван тот или иной персонаж. Так, например, стремясь узнать обстоятельства рождения Дариньки, «открыли собственноручную запись князя, законно засвидетельствованную, от 19 марта 1859 г., как раз день Ангела Дайньки» [Там же, т. 5, с. 3 79]. Шмелёв не раз упоминает, что героиня названа в честь святой мученицы Дарии Римской: «19 марта, день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии, – было это великим постом, в субботу, – Даринька причащалась» [Там же, с. 262]. Образы этих святых мучеников играют громадную роль в её жизни: Дариньке «казалось, что она с Димой – Дария и Хрисанф, супруги-девственники, презревшие “вся мира сего сласти”, и Бог посылает им венец нетленный, – погребстися под снежной пеленою, как мученики-супруги были погребены “камением и перстью”. Восторженная её головка видела в этом “венчании” давно предназначенное ей» [Там же, с. 210]. Образы святых она пытается словно бы примерить на себя и на Вагаева, найти в событиях своей жизни нечто, что соответствовало бы житию Дарии и Хрисанфа, порой она даже буквально подражает им. Впрочем, это не противоречит православию, в котором считается, что отдельные черты личности святого, особенности его характера, поведения, уникальность его судьбы отчасти передаются и тому человеку, которому он покровительствует. Возникает некая мистическая взаимосвязь, то проявление двоемирия, про которое пишут многие исследователи творчества Шмелёва.
Но чтобы увидеть, почувствовать эту связь, нужно обладать особым даром, особым мировосприятием, что дано не каждому. В романе «Пути Небесные» таким даром обладает главная героиня Дарья Королёва, которая по каким-то едва уловимым признакам смогла точно определить небесного покровителя Дмитрия Вагаева: «Ди-ма!.. вы – Дима, Димитрий! Это же был преподобный, Димитрий Прилуцкий, дружок Сергия Преподобного!..» <…> Вагаев удивился, отступил даже от неё, сказав: «Как могли вы узнать?!. Да, это был Он, мой Ангел… я именинник одиннадцатого февраля, на преподобного Дмитрия Прилуцкого, я ещё не забыл. Но откуда вы з н а е т е?!» [Там же, с. 135].
Показательно, что Даринька называет Вагаева по каноническому имени – не Дмитрий, как это сейчас принято, а Димитрий. На эту особенность имени Шмелёв указал в одном из своих писем Ильину: «…почему теперь предпочитают Димитрии – именоваться Дмитриями?» [4, с. 89].
Безусловно, в сфере личных имён Шмелёв был весьма самобытным писателем, его система антропонимов, при всей своей традиционности, значительно отличается от большинства других распространённых в литературе. Для неё, помимо прочих особенностей, характерен уже отмеченный нами принцип двоемирия, сочетание земного и небесного. И именно имена являются одним из главных скрепляющих звеньев, устанавливающих связь между земным и небесным мирами. Механизм действия этой связи объясняет святой Феодор Едесский, который говорил: «Господь каждому из нас даёт двух Ангелов. Один из них – Ангел Хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а другой – святой угодник Божий, имя которого мы носим,– ходатайствует о нас пред Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее приемлются, чем наши, грешные» [6, с. 17]. Эта тема в «Путях Небесных» приобретает огромное самостоятельное значение, чего практически нет ни у кого из известных писателей.
В связи с этим принципиальное значение имеет то, что человек отмечает: день своего рождения или именины, день Ангела. Об особом отношении русских людей к именинам Шмелёв блестяще сказал в романе «Лето Господне», где именинам отца главного героя посвящено целых две главы, в которых с мельчайшими подробностями описывается и подготовка к празднованию именин, и сам праздник.
В романе «Пути Небесные» Шмелёв говорит не только об именинах (кстати, достаточно много, хотя и не так подробно, как в «Лете Господнем») но и о днях рождения, чем подчёркивается разность культур, которым принадлежат герои: светская у Виктора и святоотеческая у Дариньки и Вагаева. Шмелёв очень тонко проводит различие между этими истинно православными людьми и «полукровкой» Вейденгаммером. В романе отсутствует упоминание его именин, поэтому неизвестно, в честь кого из святых по имени Виктор он назван. Характерно, что и дети его празднуют не именины, а светские, мирские дни рождения: «Прибежал Витенька и сказал, что сегодня его рождение, и папа прислал ему письмо из Петербурга» [11, т. 5, с. 212]. В то же время празднование дня рождения сына Виктора, как можно установить из контекста романа, происходит в конце января, и это позволяет заключить, что его небесным покровителем является святой Виктор Коринфский, чей день памяти отмечается 31 января.
Здесь следует обратить особое внимание на своеобразие изображения образа Вагаева. Автор постоянно подчёркивает, что «повеса-полувер» Вагаев, несмотря на свой светский образ жизни, остаётся ближе к православию, чем Виктор. У Вагае-ва сильный небесный покровитель, поэтому ему не нужно заступничество и помощь Дариньки, он сам способен самостоятельно выбрать свой путь: «Одиннадцатого февраля – помнила день тот Даринька – праздновалась память преподобного Димитрия Прилуцкого» [Там же, с. 261]. Не случайно Дмитрий намного лучше Виктора понимает душевное состояние Дариньки, и не случайно она притягивает его не только физически, но и духовно, внутренне. Да и сама Даринька это чувствует. «Невер» же Виктор, хотя и пытается понять Дариньку, проникнуть в глубины её внутреннего мира, очень часто не может это сделать из-за своей душевной слепоты и отсутствия помощи извне: «Даже потрясённый гибелью Дариньки, даже приняв постриг, он [Виктор] в полноте не найдёт веры – так я его понимаю, представляю. Для веры – надо родиться» [4, с. 402], – пишет Шмелёв в письме И.А. Ильину.
Показательно, что именно Вагаев поздравил Дариньку с днём её Ангела: «У Дариньки захолонуло сердце, когда читала она написанное знакомым почерком: «С Ангелом, Дари!» [11, т. 5, с. 262]. Для Вейденгаммера же празднование именин любимой женщины не является заметным праздником: «Виктор Алексеевич почувствовал себя раздавленным: Даринька не напоминала, а он забыл, что сегодня её день Ангела» [Там же, с. 262]. Очень тонко Шмелёв показывает, что и Вагаева всё же нельзя считать полностью воцерковлённым: в подарок имениннице он прислал «корзину белых гиацинтов и большой торт, любимый её, из сбитых сливок, от немца на Петровке, где когда-то пила она шоколад с Димой», однако, как заметила Да-ринька, «забыл, что сегодня пост». Поэтому «торт отослали в детскую больницу: ни Анюта, ни Прасковеюшка, ни Карп не ели постом скоромного» [Там же, с. 262].
В жизни и творчестве И.С. Шмелёва широко представлена и другая традиция имянаречения, также восходящая к христианству и отмеченная С.И. Зининым как наиболее распространённая в русском народе. Эта древняя ветхозаветная традиция намного старее именования в честь святых, которые стали почитаться лишь в христианскую эру. Она заключается в именовании в честь предков, чаще всего – в честь отца или матери, и была господствовавшей в дохристианскую эпоху. О первом нарушении этой традиции говорится в Евангелии: «В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем». (Лк. 1: 59–61). По древней традиции в романе «Пути Небесные» именуются члены семьи Виктора Алексеевича Вейденгаммера: его старший брат назван в честь отца Алексеем, а его дети – также в честь него самого и его неверной жены Анны.
Этого принципа придерживались и в семье Шмелёвых: сын Шмелёва Сергей, погибший в гражданскую войну, назван в честь своего деда.
Говоря об именах главных героев романа «Пути Небесные», следует указать ещё на одну особенность, которая, на наш взгляд, в силу своей уникальности, ставила перед Шмелёвым чрезвычайно сложную задачу. Как известно, роман «Пути Небесные» создан на документальной основе, по биографиям инженера Виктора Алексеевича Вейденгаммера и Дарьи Королёвой, которые жили в конце XIX века рядом с Оптиной пустыней. Поэтому Шмелёв не мог дать им имена вымышленные, в которые можно было бы заранее заложить определённый смысл, определяемый творческим замыслом – что, собственно, и происходит в мире художественного творчества. Однако И. С. Шмелёву удалось блестяще решить и эту нетривиальную задачу. Реальные имена реальных людей настолько органично вписываются в структуру произведения, что фактически не воспринимаются как прецедентные. Здесь наблюдается полное слияние мира художественного вымысла и мира действительного. Кстати, эта проблема имени успешно решалась в произведениях древнерусской книжности, где было неприемлемо использовать вымышленные имена.
Большую роль в системе имянаречения романа «Пути Небесные» играют не только упоминаемые небесные покровители, но и этимология, буквальное значение имени. Вопрос о том, насколько правомерно обращать внимание на этимологию имени, возникающий при определении роли антропонимов в художественном произведении, является в современной филологии наиболее сложным и спорным. Мы исходим из точки зрения, которая наиболее распространена в литературоведении: «…Если в реальной действительности долитературное значение, этимология собственного имени не имеет никакого значения, то в рамках художественного целого именно оно, поглощая подчас прямое значение слова, скрыто в тех включённых в него “обертонах” смысла, которые появляются при неразрывной связи именования с разными частями текста» [8, с. 198].
Следует отметить, что и православная традиция призывает обращать внимание на этимологию имени: «В святцах имена не только русские, но и еврейские, греческие, латинские, халдейские, готфские, арабские, сирийские и другие. Каждое имя на своём языке имеет тот или иной смысл. <…> При выборе имени не стоит пренебрегать его смысловым значением» [7].
В «Путях Небесных» Шмелёв во многом отходит от сложившейся литературной традиции либо полностью исключать намёки на этимологию поэтонима, что даёт много пищи для исследователей, пытающихся прояснить смысл того или иного имени, либо, наоборот, прямо и однозначно объяснять смысл имени героя (как, например, это делает Д. И. Фонвизин в «Недоросле» или А. С. Грибоедов в «Горе от ума»). Помимо того, что он приводит, так сказать, стандартное, зафиксированное в словарях объяснение значений имён Дарья – «победительница» и Виктор – «победитель», он значительно расширяет круг ассоциаций, непосредственно связанных с этимологией. Именно благодаря этимологии, обладающей пророческими, профе-тическими свойствами предсказывает будущее и раскрывает назначенное героям романа старец Варнава: «Дарья… вот и не робей, п о б е д и ш ь». Даринька поняла батюшкино слово: Дарья означает – побеждающая, говорили в монастыре. “Всю жизнь распутывать, а ты не робей. Ишь, быстроглазая, во монашки хочешь… а кто возок-то твой повезет? Что он без тебя-то, п о б е д и т е л ь-т о твой?” После только узнала Даринька, что Виктор означает – победитель. <…> “Поедете куда, ко мне заезжайте, погляжу на вас, п о б е д и т е л е й”» [11, т. 5, с. 247–248].
И далее: «Батюшка спросил, как имя. “А-а… помню, помню, победитель. Вот и п о б е ж д а й”. Благословил на путь. “Оптино… вот вы и опытные будете… хорошо, дочка, выбрала, у м н и ц а, – батюшка погладил Дариньку по голове, – с Богом, с Богом… – Оборотился к Виктору Алексеевичу и быстро-быстро: – Говоришь – инженер? вот и с т р о й с Богом, с Богом!..”» [Там же, с. 267].
Шмелёв достаточно подробно раскрывает суть имени Дарьи: «Отец Варнава назвал её провидчески – “пуганая”. В действительности это было началом её господства, оправданием имени – Дария, во исполнение слова отца Варнавы: “победишь”. Но, проявляя своё господство, она оставалась прежней, привлекавшей лучившеюся из неё чистотой и этой неопределимой женственностью. <…> Она умела обходиться со всеми так, что никто не чувствовал её господства, а выходило, что иначе нельзя, все этого и хотят, и рады повиноваться ей. <…> Мог ли я думать, что скромница окажется сильней насильников, слабая будет ломать крепышей!..» [Там же, с. 302–303].
Причём примеров, когда этимология имени соответствует образу, характеру человека, у Шмелёва немало. Так, Дариньке «вспомнилось: Аглаида – “светоподобная”. Почитали её в обители, называли молитвенницей и светлосердой» [Там же, с. 365].
Отличительной особенностью ономастикона Шмелёва является то, что он, помимо этимологии, всячески обыгрывает русское, буквальное звучание имени Дарья, созвучное со словом «дар». Именно как дар, как подарок свыше воспринимают Дарью и Дмитрий, и Виктор: «Даринька вспоминала смутно, что Вагаев целовал ей руки, платье, безумствовал, называл нежными словами – “моя “Да”, “Дари моя”, – кажется, целовал глаза…» [Там же, с. 189]. Примечательно, что, по одной из версий, имя «Дарья» имеет славянские корни, народная этимология придаёт имени значение «дарованная, дар Бога».
Таким образом, происходит слияние церковного и народного взгляда на имена, что нам представляется принципиально важным для всего мировоззрения Шмелёва, который, при всём своём стремлении как можно глубже отобразить православный мир, оставался писателем подлинно народным, был, как он сам писал, не монахом, а вполне земным человеком.
Характерной особенностью творчества Шмелёва является то, что писатель стремился реализовать все нюансы, заключённые в имени, от этимологии и прозрачных ассоциаций до фонетических созвучий, православного подтекста и аллюзий. Чрезвычайно внимательный к мельчайшим подробностям родной речи, Шмелёв вполне в духе современных фонетических теорий объясняет смысл имени героини повести А.П. Чехова «Дом с мезонином»: «Можно ли приписать чуткому Чехову, что он признаёт правоту за Лидой? правоту её отношения к свободе чувства, духа? Чехов и имя-то ей дал, хладно звучащее по-русски: сочетание в её имени “Л” и “Д”, дающее звуковое ощущение холода. И, действительно, Лида в рассказе – “ледяная”; немцы зовут таких “рыбий глаз”, “фиш-ауге”. На такой “лиде” поскользнёшься, из “рыбьего глаза” веет мертвящим холодом» [Там же, т. 7, с. 556].
С христианской точки зрения, выраженной в романе «Пути Небесные», весь мир, включая и имена, является творением Божиим. И подобно тому, как человек по слабости веры своими руками губит красоту Божьего мира (а эта тема во всём её разнообразие является сквозной для творчества Ивана Сергеевича Шмелёва), точно так же, с утратой истинно православных ценностей, теряется и изначальный, сакральный смысл имени, про который очень точно сказал философ-имяславец Павел Флоренский: «Имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» [9, с. 182].
Сейчас очень редко отмечают именины, далеко не все знают о своём небесном покровителе, утрачена культура именоваться в честь святых. Тем самым разрушается та связь между земным и небесным, о которой так проникновенно писал Шмелёв в своём знаменитом романе.
Список литературы Православные традиции имянаречения в творчестве И. С. Шмелёва
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Издво Петрозаводского ун-та, 1995. 288 с.
- Златоуст Иоанн. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Беседы на книгу Бытия. Том 4, книга первая. Беседа XXI //Золотой корабль. Православная библиотека. URL: http://www.golden-ship.ru/_ld/17/1798_4-11.htm. (Дата обращения: 18.08.2015.)
- Зинин С. И. Русская антропонимия XVII-XVIII вв. (на материале переписных книг городов России): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/С. И. Зинин; Ташкентский гос. ун-т. Ташкент, 1969. 22 с.
- Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1935-1946). М.: Рус. книга, 2000. 576 с.
- Любомудров A. M. Православное монашество в творчестве и судьбе И. С. Шмелёва//Христианство и русская литература. Вып. 1. СПб.: Наука, 1994. С. 364-394.
- Печерская А. И. Православные имена. Выбор имени. Небесные покровители. Святцы. М.: Амрита; СПб.: ИК «Крылов», 2013. 180 с.
- Твоё православное имя //Сайт храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев. URL: http://hramzis.ru/index.php?names. (Дата обращения: 18.08.2015.)
- Уба Е. В. Имя героя как часть художественного целого: (По романной трилогии И. А. Гончарова)//Гончаров И. А.: Материалы Международной конференции, посвящённой 190-летию со дня рождения И.А. Гончарова. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2003. С. 195-202.
- Флоренский П. ?. Сочинения: в 4 т. Т. 3 (2). М.: Мысль, 2000. 623 с.
- Шмелёв И. С., Бредиус-Субботина О. А. Роман в письмах: в 2 т. Т. 2. М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2005. 853 с.
- Шмелёв И. С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. М.: Рус. книга, 1998. 680 с.