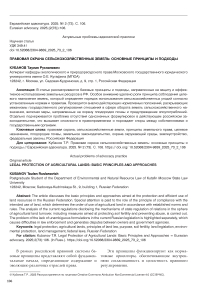Правовая охрана сельскохозяйственных земель: основные принципы и подходы
Автор: Кубанов Т.Р.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются базовые принципы и подходы, направленные на защиту и эффективное использование земельных ресурсов в РФ. Особое внимание уделено роли принципа соблюдения целевого назначения земель, который определяет порядок использования сельскохозяйственных угодий согласно установленным нормам и правилам. Проводится анализ действующих нормативных положений, раскрывающих механизмы государственного регулирования отношений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, включая меры, направленные на охрану плодородия почвы и предупреждение злоупотреблений. Отдельно подчеркивается проблема отсутствия однозначных формулировок в действующем российском законодательстве, что вызывает сложности в правоприменении и порождает споры между собственниками и государственными органами.
Правовая охрана, сельскохозяйственные земли, принципы земельного права, целевое назначение, плодородие почвы, земельное законодательство, охрана окружающей среды, землеустройство, федеральные законы, Российская Федерация
Короткий адрес: https://sciup.org/140309897
IDR: 140309897 | УДК: 349.41 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_106
Текст научной статьи Правовая охрана сельскохозяйственных земель: основные принципы и подходы
В рамках российской правовой системы базовые принципы представляют собой фундаментальные начала, определяющие содержание и эволюцию различных отраслей права.
Эти принципы функционируют как нормативные ориентиры, обеспечивающие внутреннюю согласованность и целостность правового регулирования.
Во-первых, базовые принципы служат основой для формирования правовой системы, обеспечивая ее структурную и функциональную целостность. Они создают правовые рамки, в пределах которых осуществляется интерпретация и применение норм права. Во-вторых, указанные принципы оказывают значительное влияние на процесс правотворчества. Законодательные органы, разрабатывая новые нормативные акты, опираются на эти принципы для обеспечения соответствия новых норм существующим правовым традициям и концепциям. Принцип защиты прав и свобод человека и гражданина, являющийся краеугольным камнем как Конституции Российской Федерации [1], так и всей системы российского права, иллюстрирует данное положение. В-третьих, принципы права оказывают воздействие на правоприменительную практику: судебные и правоприменительные органы, рассматривая конкретные дела, должны учитывать эти принципы при принятии решений. Это обеспечивает не только формальное, но и материальное правосудие, что подразумевает соответствие решений судов не только букве закона, но и его духу.
Таким образом, базовые принципы представляют собой неотъемлемый компонент российской правовой системы, формируя ее содержание и способствуя ее развитию. Их значение выходит за рамки теоретических аспектов, проникая в практическую плоскость и оказывая влияние на все уровни правоприменения и правотворчества. В условиях динамично изменяющегося социального и правового контекста необходимо постоянно переосмыслять и адаптировать эти принципы к новым вызовам, что будет способствовать гармоничному развитию правовой системы Российской Федерации.
Одним из таких фундаментальных принципов земельного права является принцип категоризации земель по их целевому назначению – правовой режим земельных участков в Российской Федерации формируется на основе их отнесения к определенным категориям и установленного разрешенного использования. Реализация происходит в контексте зонирования территорий, что, в свою очередь, должно соответствовать требованиям действующего законодательства [3, 7]. Таким образом, классификация земель по категориям не только структурирует правовые отношения в сфере земельного оборота, но и обеспечивает соблюдение норм, регулирующих использование земельных ресурсов, что является необходимым условием для эффективного управления и охраны земель.
Однако следует отметить, что действующее земельное законодательство Российской Федерации не предоставляет четких определений таких ключевых понятий, как «категории земель», «целевое назначение» и «разрешенное использование», что, безусловно, создает определенные трудности в правоприменительной практике и научном анализе. В связи с этим для более глубокого понимания и интерпретации принципа «деления земель по целевому назначению на категории» необходимо обратиться к положениям научной доктрины, при этом понимая, что и в рамках обсуждения указанной проблемы в научном сообществе отсутствует единогласие, что, в свою очередь, указывает на многообразие подходов и теоретических конструкций.
Целевое назначение земель, по определению Б.В. Ерофеева, представляет собой «установленный законодательством порядок, условия и ограничения, касающиеся эксплуатации (использования) земель для конкретных целей в соответствии с их категориями» [13].
А.Я. Рыженков, проводя анализ законодательства и судебной практики, пишет следующее: «... представляется, что «целевое использование» следует понимать в смысле «разрешенного использования», виды которого для земель сельскохозяйственного назначения определены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в числе которых названы овощеводство, садоводство, животноводство и ряд других. Таким образом, этот институциональный принцип земельного права правильнее назвать принципом «сохранения целевого назначения и разрешенного использования сельскохозяйственных угодий» [15, с. 102]. Тут следует отметить, что приказ Министерства экономразвития, на который ссылается автор, утратил силу в связи с принятием Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Приказа от 10 ноября 2020 года № П/0412 [7], регламентирующего допустимые виды использования земель сельскохозяйственного назначения. Однако смысловая нагрузка подхода автора к указанной проблеме от этого не теряет своей актуальности: целевое использование земли должно исходить из санкционированного государством вида разрешенного использования.
А.К. Голиченков в своем исследовании предлагает рассматривать понятие «целевое назначение земель» как критериальный инструмент, который выполняет две основные функции. Во-первых, служит основанием для деления земель на категории, что позволяет систематизировать земельные ресурсы в соответствии с их функциональным назначением. Во-вторых, целевое назначение является важным критерием для оценки правомерности использования земельных участков, что имеет значительное значение в контексте принудительного прекращения прав на землю и привлечения лиц к ответственности за нарушения норм земельного законодательства [12, с. 154].
Целевое назначение земельных участков подразумевает четкое определение прав и обязанностей правообладателей в контексте рационального использования и охраны земель. Однако на практике не существует единого, универсального целевого назначения для любой категории земель. Например, целевое назначение земель сельскохозяйственного назначения не ограничивается обязательством выращивания исключительно одного определенного вида сельскохозяйственных культур. Это свидетельствует о многообразии возможных способов использования таких участков, что позволяет обеспечить гибкость в их эксплуатации и адаптацию к изменяющимся условиям и потребностям сельскохозяйственного производства [10, с. 28].
Законодательные положения, касающиеся данного принципа, не ограничиваются только нормами Земельного кодекса Российской Федерации. Они уточняются через Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [4], а также через Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [6]. Оба этих закона устанавливают конкретные случаи, при которых возможен перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, что направлено на предотвращение нецелевого использования и обеспечение сохранности плодородия почв.
В научной литературе активно обсуждается необходимость дополнения принципа сохранения целевого использования земель требованием долгосрочного планирования их использования. Это предложение подразумевает разработку планов внутрихозяйственной организации землепользования, что могло бы стать эффективным инструментом для обеспечения рационального использования сельскохозяйственных угодий. Долгосрочное планирование может способствовать не только эффективному использованию ресурсов, но и улучшению состояния экосистем, связанных с сельским хозяйством.
Судебная практика подтверждает, что принцип сохранения целевого использования земельных участков подкреплен действующими правовыми нормами. Например, договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенные для целей, не связанных с сельским хозяйством, признаются недействительными. Это служит подтверждением обязательности соблюдения целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения и демонстрирует, что правовая система активно реагирует на нарушения данного принципа.
Важно отметить, что земли сельскохозяйственного назначения не подпадают под градостроительное зонирование, и виды разрешенного использования для них не устанавливаются. Это исключает возможность изменения целевого назначения данных земель и использования их для застройки или иных несельскохозяйственных целей. Таким образом, сохраняется строгость регулирования в отношении использования сельскохозяйственных угодий, что служит залогом их сохранения и продуктивного использования в интересах общества.
Таким образом, принцип сохранения целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения является не только правовым требованием, но и важным условием для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Это подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и совершенствования законодательства в данной области для достижения максимальной эффективности в использовании земельных ресурсов.
Второй принцип регулирует максимальное количество сельскохозяйственных угодий, которые могут находиться в собственности одного физического или юридического лица на территории одного муниципального образования. Этот принцип направлен на предотвращение монополизации земель сельскохозяйственного назначения и способствует поддержанию здоровой конкуренции в аграрном секторе.
В п. 2 ст. 4 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного значения» прямо закреплено, что «максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного муниципального района, муниципального округа или городского округа и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, устанавливается законом субъекта Российской Федерации равным не менее чем 10 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков» [5]. Правоприменительной практикой выявлено, что предусмотренное им ограничение свободы оборота земель сельскохозяйственного назначения допускается в целях достижения баланса конституционных ценностей сохранения целевого использования, наименьшего дробления участков из состава земель сельскохозяйственного назначения как основы жизнедеятельности народов России, с одной стороны, и защиты интересов собственника по свободному владению, пользованию, распоряжению землями сельскохозяйственного назначения – с другой.
Указанное согласуется и с нормами гражданского законодательства. Так, в соответствии с п. 3 ст. 129 ГК РФ «земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах» [2]. В этом заключается конституционно-правовой смысл второго из принципов, его публично-правовое отражение.
Данные выводы содержатся в мотивировочной части Определения Верховного Суда РФ от 8 апреля 2009 г. № 15-Г09-2, законная сила которого позволяет использовать их для иллюстрации смыслового наполнения комментируемого принципа оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Судебное определение № 15-Г09-2 от 8 апреля 2009 года представляет собой результат рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации заявления К. об оспаривании Закона Республики Мордовия № 75-З от 25 сентября 2008 года, установившего минимальный размер земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 5 гектаров. Заявительница К. утверждала, что данное положение нарушает ее право на выделение доли в размере 4,11 га из общего земельного участка сельскохозяйственного назначения. Верховный Суд Российской Федерации признал действия законодательного органа Республики Мордовия соответствующими нормам федерального законодательства и подтвердил законность установления минимального размера земельного участка.
В своем определении суд обосновал законность принятых Республикой Мордовия мер, ссылаясь на положения Конституции Российской Федерации, Земельного кодекса РФ и Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Согласно Конституции РФ, земля и другие природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, что обусловливает особый порядок оборота земельных участков, отличный от свободного оборота другого имущества. Кроме того, регулирование вопросов владения, пользования и распоряжения землей относится к совместной компетенции Российской Федерации и субъектов РФ, что позволяет регионам принимать собственные законы в пределах полномочий, установленных федеральными актами.
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» допускает ограничение свободы оборота земель сельскохозяйственного назначения с целью сохранения их целевого использования и минимизации дробления участков. В данном случае установление минимального размера земельного участка в 5 га соответствует этим принципам и направлено на защиту публичных интересов, таких как сохранение земли как основы жизни и деятельности народов.
Таким образом, ограничение прав собственника в данном случае является оправданным и направлено на достижение конституционно значимых целей [9].
Данное судебное определение имеет существенное значение для правоприменительной практики, поскольку содержит подтверждение правомерности действий региональных органов власти по установлению минимального размера земельных участков сельскохозяйственного назначения. Такое решение поддерживает стратегию сохранения целостности и крупноплощадных массивов сельскохозяйственных угодий, предотвращая их фрагментацию, что является критичным для обеспечения устойчивого развития аграрного сектора и сохранения плодородия почв.
Третий принцип устанавливает приоритетное право субъекта Российской Федерации на приобретение земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при его отчуждении, за исключением случаев, когда продажа осуществляется посредством публичных торгов. Субъект Российской Федерации вправе передать указанное право муниципальному образованию.
Согласно позиции Е.В. Балашова, «Преимущественное право покупки – это особый механизм регулирования, по своему содержанию имеющий льготный характер. Система льгот и ограничений, которая применяется законодателем в земельном праве, достаточно разнообразна.
Эти средства, как правило, используются для стимулирования определенного «нужного» поведения участников земельных отношений» [11, с. 90].
Данный институт получил правовое закрепление в федеральном законодательстве, в частности, в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также в соответствующих региональных законодательных актах субъектов Российской Федерации.
Так, например, согласно п. 4 ст. 5 Закона Ставропольского края от 12 апреля 2010 года № 21-кз, «при продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения преимущественное право покупки такого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», имеет Ставропольский край. В случае продажи земельного участка площадью менее 50 гектаров преимущественное право его покупки имеет муниципальное образование Ставропольского края (поселение или городской округ), в границах которого расположен данный земельный участок» [8]. Конкретно в этом регионе правом преимущественной покупки обладают и субъект РФ, и муниципальные образования, при соблюдении указанного размера площади приобретаемого земельного угодья, что не противоречит федеральному законодательству.
Преимущественное право покупки не применяется к садовым, огородным земельным участкам, а также к территориям, предназначенным для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства и расположенным под объектами недвижимости, за исключением жилых строений, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами [14]. Данная норма обусловлена тем, что указанные категории земель не подпадают под действие Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Это позволяет осуществлять дифференцированное регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения, что способствует сохранению их целевого назначения и предотвращает произвольное дробление земельных участков.
Процедура реализации преимущественного права включает обязательное уведомление продавца о намерении продать земельный участок с указанием цены и других существенных условий договора. Продавец обязан направить соответствующее извещение уполномоченному органу, который, в свою очередь, имеет право отказаться от покупки или выразить намерение приобрести участок в течение 30 дней. В противном случае продавец получает право продать участок третьим лицам по цене не ниже указанной в извещении.
Нарушение преимущественного права покупки влечет исключительные правовые последствия – признание сделки ничтожной. Считается, что указанная мера направлена на защиту публичных интересов, связанных с сохранением целевого использования земель сельскохозяйственного назначения и предотвращением их нецелесообразного использования.
Противоположную позицию занимает Е.В. Балашов, утверждающий, что «рациональное использование и охрана природных ресурсов (в нашем случае – земель сельскохозяйственного назначения) не обусловлены формой собственности на них. Более того, согласно статье 9 Конституции Российской Федерации преимущество публичной формы собственности не установлено. Формы собственности равны (земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности). Следовательно, самый главный критерий, который должен быть установлен, – это возможность будущего собственника быть рациональным пользователем и соблюдать природоохранное законодательство, а государство и муниципальное образование априори им не являются» [11, с. 92].
Представляется правильным поддержать позицию автора, в том числе, в видении решения вопроса «оптимизации» предусмотренного законодателем института преимущественной покупки земель сельскохозяйственного назначения. Е.В. Балашов предлагает следующее: «Публичное участие было бы более обоснованным при условии приобретения земель сельскохозяйственного назначения по остаточному принципу, чтобы не допускать их неиспользования, не доводить ситуацию до необходимости принудительного изъятия по основаниям, предусмотренным статьей 6 Закона об обороте земель. В качестве механизма такого приобретения можно было бы использовать по аналогии правила, предусмотренные пунктом 14 статьи 6 этого закона. В указанном пункте, в частности, предусматривается, что если земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения так и не продан с публичных торгов, то он может быть приобретен по минимальной цене торгов в муниципальную собственность. Если же муниципалитет не реализует это право, то орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязан приобрести такой земельный участок в государственную собственность по минимальной цене торгов» [11, с. 91].
По итогам проведенного исследования можно выделить следующие ключевые выводы.
-
1. Базовые принципы права играют фундаментальную роль в формировании и развитии правовой системы. Они служат ориентирами для правотворческой и правоприменительной деятельности, обеспечивая внутреннюю согласованность и целостность правовых норм. Эти принципы оказывают влияние на процесс толкования и применения законодательства, что делает их неотъемлемой частью функционирования правовой системы.
-
2. Принцип деления земель по целевому назначению на категории является основополагающим в земельном праве. Он позволяет структурировать земельные ресурсы и формировать правовые режимы их использования, что способствует эффективному управлению и охране земель. Однако в действующем законодательстве и научной литературе отсутствует единообразие в трактовке ключевых понятий, таких как «категория земель», «целевое назначение» и «разрешенное использование», что создает сложности в правоприменении.
-
3. Целевое назначение земель представляет собой многофункциональный инструмент регулирования земельных отношений. Оно не только определяет границы допустимого использования земельных участков, но и служит критерием для оценки правомерности действий правообладателей. Это позволяет государству контролировать использование земель и привлекать к ответственности за нарушения земельного законодательства.
-
4. Наряду с правовыми нормами существует необходимость долгосрочного планирования использования земель сельскохозяйственного назначения. Разработка планов внутрихозяйственной организации землепользования может значительно улучшить эффективность использования земельных ресурсов и способствовать охране окружающей среды.
-
5. Судебная практика подтверждает обязательность соблюдения целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения. Недействительность договоров аренды, заключенных для целей, не связанных с сельским хозяйством, свидетельствует о готовности правовой системы защищать целевые функции земель.
-
6. Земли сельскохозяйственного назначения обладают особым статусом, который требует строгого регулирования. Отсутствие градостроительного зонирования и невозможность изменения целевого назначения защищают эти земли от нецелевого использования и способствуют их
-
7. Законодательство об обороте земель сельскохозяйственного назначения содержит ограничения на свободу оборота, направленные на предотвращение монополизации и дробления земель. Эти ограничения поддерживают здоровую конкуренцию в аграрном секторе и способствуют достижению баланса между интересами собственников и публичными интересами.
сохранению для продуктивного использования в интересах общества.
Таким образом, комплексный подход к регулированию земельных отношений, основанный на базовых принципах права, является необходимым условием для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды.