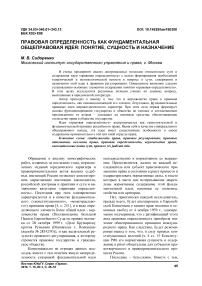Правовая определенность как фундаментальная общеправовая идея: понятие, сущность и назначение
Автор: Сидоренко Мария Васильевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 3 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринят анализ доктринальных подходов относительно сути и содержания идеи «правовая определенность» с целью формирования необходимой теоретической и методологической ясности в вопросе о сути, содержании и назначении этой идеи в правовом регулировании. Повышенное внимание уделено установлению основных элементов содержания понятия «правовая определенность». В этих целях исследуются различные позиции ученых по данному вопросу, высказанные в юридической литературе. Автор приходит к выводу о том, что и верховенство права и правовая определенность, как основополагающий его элемент, безусловно, фундаментальные правовые идеи мировоззренческого характера. При этом если первая формирует основы функционирования государства и общества по единым и согласованным предписаниям; то вторая - указывает на основные средства, обеспечивающие господство права в обществе государстве. Идея «правовая определенность» воспринимается как самостоятельный и фундаментальный принцип российского права. Являя себя в качестве универсального общеправового начала, эта идея имеет существенные особенности в своем содержании применительно к той или иной отрасли права.
Стабильность права, правовое регулирование, правовые отношения, коллизии права, правовая определенность, верховенство права, окончательные акты суда, правило res judicata rule
Короткий адрес: https://sciup.org/147150088
IDR: 147150088 | УДК: 34.03+340.01+343.13 | DOI: 10.14529/law160308
Текст научной статьи Правовая определенность как фундаментальная общеправовая идея: понятие, сущность и назначение
Обращение к анализу монографических работ, изданных за последние годы, периодических изданий юридического характера и правоприменительных актов высших судебных инстанций России позволяет констатировать нарастающие апелляции законодателя, российской доктрины и практики к сути и назначению категории «правовая определенность». Последняя при этом одновременно характеризуется и в качестве фундаментального («конституционного», «межотраслевого») принципа права [4, с. 251], и в виде определяющего элемента более общей идеи – верховенства права (Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека от 28 октября 1999 г. «Дело Брумареску против Румынии (Brumarescu v. Romania)» (жалоба № 28342/95)), и как желательный результат правового регулирования, к которому стремится правовое государство и гражданское общество.
Конвенциально не отрицая данных подходов, вместе с тем отметим явную неопределенность указанной фундаментальной идеи непосредственно в нормативном ее выражении. Представляется, далеко не каждый исследователь или субъект практического применения права в состоянии (сразу) привести и охарактеризовать нормативные акты, в тексте которых в части или исчерпывающе закреплены нормативное содержание этой фундаментальной идеи, основные ее элементы, свойства или критерии.
Нет, практически каждый исследователь, прежде всего, будет апеллировать к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., одновременно подчеркивая, что с ратификацией этого акта правовая определенность приобрела значение общепризнанного принципа международного права. Как следствие, будет резюмирован вывод о том, что, в силу прямых конституционных велений (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) его нормативная сущность и содержание a priori обязательны для субъектов правотворческого и правоприменительного процесса России.
Последнее – безусловно. Вместе с тем, как известно, Европейская Конвенция не содержит ни нормативного закрепления этого принципа, ни конкретного его определения, ни достаточно ясного нормативного содержания. Последнее, наполняется (корректируется, уточняется) путем анализа и истолкования Европейским Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) различных правовых ситуаций [2, с. 40–47]. В итоге, наиболее часто цитируемое содержание категории «правовая определенность» – во многом результат эволюционного толкования текста Конвенции непосредственно ЕСПЧ, акты которого, как известно, ipso facto обязательны для российского правотворчества и правоприменения, причем в смысловой интерпретации, предложенной непосредственно этим Судом. Последняя, между тем, неоднозначна по сути, в том чис-ле,в силу эволюционного (по времени и смыслу) познания ЕСПЧ основных положений текста Конвенции [8, с. 38–42]. Как следствие, налицо легальные в целом возможности к субъективному выбору и еще более субъективной интерпретации правоприменителями отдельных положений Конвенции (в прецедентном ее толковании), что явно не «добавляет» определенности в сфере правовых отношений.
В итоге, мы несколько скептически оцениваем (резюмирующую) уверенность И. С. Дикарева в том, что «…элементы, через которые в настоящее время раскрывается содержание принципа правовой определенности, не только известны каждому юристу, но интуитивно понятны даже людям, весьма далеким от юриспруденции» [5, с. 4], ибо именно в этих элементах заключены чаяния рядового гражданина, желающего видеть в законе надежный щит, а в государстве – гаранта своей безопасности.
Отсутствие точного понимания сути и содержания идеи «правовая определенность» минимизирует и основное назначение последней, суть которого – в обеспечении особого правового состояния (режима) стабильности и безопасности функционирования как самого государства и общества, так и «рядовых» его членов, требующих стабильности и безопасности правового статуса, правовых отношений, последствий применения права. Методологически точно и верно на это назначение категории «правовая определенность» указывается в системе французского (securite juridi-gue) и немецкого (rechtssicherheit) права, где правовая определенность характеризуется прежде всего с позиций правовой безопасности.
По идее, доктрина российского права в целом определилась в вопросе о том, что правовая определенность становится все более значимым фактором текущего правотворческого и правоприменительного процессов. На этом единство взглядов и мнений собственно и заканчивается, так как видовая принадлежность исследуемой фундаментальной идеи и, особенно, нормативное ее содержание (в большинстве своем) трактуются с принципиально различных позиций.
Судья Верховного Суда РФ В. И. Анишина, с одной стороны, констатирует, что исследование категории «правовая определенность» становится актуальной проблемой в доктрине современного конституционного права, с другой – трактует эту идею как «важнейший международный и конституционный принцип», как принцип «общеправовой» [1, с. 149].
Судья Конституционного Суда РФ Н. С. Бондарь, нисколько не отрицая значение исследуемой фундаментальной идеи для становления и развития современного конституционализма в России, так же резюмирует, что правовая определенность, скорее, является универсальным принципом права [3, с. 4–10].
А. П. Фоков и Я. М. Винокурова, по сути, солидарно суммируют, что принцип правовой определенности охватывает разные смысловые значения, которые опосредуются областью его реализации. Отсюда и убедительными, и верными (в итоге) видятся им позиции В. И. Анишиной и Т. Н. Назаренко [11, с. 16].
Можно было бы конвенциально согласиться с позициями указанных авторов, не множить далее сущности и однозначно признать за идеей правовой определенности, во-первых, значение принципа права, во-вторых, его фундаментальный и универсальный характер, в-третьих, самостоятельное значение в правовом регулировании. Можно, если бы сами эти позиции были более или менее постоянны. Однако, к примеру, та же В. И. Анишина пишет о том, что определенность именуется универсальным критерием в силу конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, так как «такое равенство может быть обеспечено только лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми правопримените- лями» [1, с. 155].
Соответственно А. П. Фоков и Я. М. Винокурова, суждение которых мы вполне разделяем, считают методически обоснованным указать этому автору на существенное различие (для области права) категорий «критерий» и «принцип». Резюмирован и вывод о том, что неправомерное использование первого термина умаляет фундаментальный характер исследуемой идеи [11, с. 18].
Справедливости ради отметим, что «истоки» указанного подхода обнаруживают себя и в позициях высшего (национального) органа конституционного правосудия, который первоначально охарактеризовал правовую определенность как принцип, но впоследствии, как верно подметил И. М. Евлоев [6, с. 250], применительно к последнему стало использоваться также понятие «критерий». В настоящее время без разграничения методических, по сути, различий нередко используются оба указанных термина, что не добавляет определенности в понимание исследуемой идеи.
Несмотря на то, что в актах Европейского Суда по правам человека (постановления ЕСПЧ: «Худякова против Российской Федерации» от 8 января 2009 г. (жалоба № 13476/04); «Пелевин против Российской Федерации» от 10 февраля 2011 г. (жалоба № 38726/05); «Акрам Каримов против Российской Федерации» от 28 мая 2014 г. (жалоба № 62892/12) и др.) и в практике высших судебных инстанций России (Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 2012 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С. А. Красноперова»; Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2013 г. № 50-Д13-56 и др.) исследуемая правовая идея однозначно характеризуется в качестве самостоятельного и фундаментального принципа, российская доктрина также не столь однозначна в этих вопросах, подвергая сомнению, как первое, так и второе.
Так, Т. Н. Нешатаева считает необходимым конкретизировать свои подходы в этом принципиальном вопросе, констатируя, что правовая определенность есть основной элемент принципа верховенства права, являющегося основой конституций современных государств. И соответственно указанный принцип – резюмирует автор – закреплен в междуна- родных договорах, в которых участвует Российская Федерация [9, с. 124–140].
А. П. Фоков и Я. М. Винокурова, анализируя позицию А. Г. Гаджиева, акцентируют внимание на утверждении последнего, в соответствии с которым, несмотря на формальное название «принцип правовой определенности», последний носит не самостоятельное, а субсидиарное значение, являясь «частью нормативного содержания конституционного принципа верховенства права» [11, с. 18].
По идее, можно было остановиться на этом, отметив, что авторы несколько своеобразно понимают диалектику «общего», «особенного» и «единичного» в исследовании столь сложных явлений права, как мировоззренческие идеи (принципы). Однако (далее) они же стремятся еще более конкретизировать подходы в этом вопросе, апеллируя, в том числе к авторитетному и, как утверждается, теоретически верному выводу В. В. Ершова. «Доктрина «верховенство права» еще не сложилась как признанная система научных взглядов, имеющих существенное практическое значение. В итоге, верховенство права можно рассматривать, скорее, как потенциально глубокую и плодотворную научную концепцию, требующую своего дальнейшего развития с позиции интегративного понимания права» [7, с. 14; 11, с. 18–19].
В данных выводах уже нет оснований для признания принципом права не только идеи «правовая определенность», но и более общей идеи «верховенство права», ибо последние, если и существуют реально, то лишь в потенции плодотворной научной концепции.
Не удивительно, что оценивая указанное разнообразие мнений, М. В. Пресняков называет правовую определенность «…весьма эклектичным понятием, объединяющим самые различные требования к качеству закона и правоприменительной практики. В связи с этим и попытки дать единое понятие правовой определенности в литературе предпринимаются нечасто» [10, с. 3–16].
В том же резюмирующем и смысловом контексте А. П. Фоков и Я. М. Винокурова делают вывод о том, что до настоящего времени как в науке, так и в судебной практике не достигнуто единообразного подхода к понятию правовой определенности, не определена четко его правовая природа [11, с. 17].
По поводу единообразия позиций и взглядов конвенциально спорить не будем, тем более что есть серьезные сомнения в том, что доктрине действительно необходимо и полезно отсутствие дискуссий и споров о содержательных элементах той или иной фундаментальной идеи. В спорах, как известно, рождается истина. Что же касается сути вопроса, то здесь, как представляется, дискуссии явно надуманы: и верховенство права, и правовая определенность, как основополагающий его элемент, безусловно, фундаментальные правовые идеи мировоззренческого характера. При этом если первая формирует основы функционирования государства и общества по единым и согласованным предписаниям, то вторая – указывает на основные средства, обеспечивающие господство права в обществе и государстве. Первое без второго нежизненно и схоластично.
В данной связи, однозначно воспринимая идею правовой определенности как самостоятельный и фундаментальный принцип российского права, мы вместе с тем признаем и тот факт, что, являя себя в качестве универсального общеправового начала, эта идея имеет существенные особенности в своем содержании применительно к той или иной отрасли права. Отчасти указанные особенности обусловлены предметом и методом правового регулирования, отчасти – структурой и динамикой реализующихся правовых отношений. Отсюда во многом понятны и апелляции М. В. Преснякова как к эклектике нормативного содержания категории «правовая определенность», так и к разнородности правовых средств, направленных на ее обеспечение.
Указанное и справедливо, и верно. Но только отчасти, поскольку, на наш взгляд, всегда объективно в наличии неизменная суть этой фундаментальной идеи: обеспечение режима (состояния) правовой безопасности личности, общества, государства как основы оптимального функционирования правового государства и гражданского общества. Соответственно должны быть конвенциально едины и основные (исходные) элементы содержания этой идеи, которые обязаны объективировать себя вне зависимости от отрасли права, предмета и метода регулирования, субъектов, объекта и содержания реализующихся правовых отношений. На наш взгляд, идея (принцип) правовой определенности прежде всего объективирует себя через потребность в стабильном правовом регулировании.
Содержательно (через элементы) указанная потребность раскрывает себя через статику и динамику права. Статика права при этом объективирует себя через стабильность текущего нормативного регулирования и основанного на нем процесса реализации правовых отношений; формальную определенность действующих правовых предписаний (норм); ясность наличествующих прав и неизменность правового статуса лиц (участников правовых отношений).
Второй элемент содержания идеи «правовая определенность» охватывает собой динамику применения права. В этом аспекте правовая определенность объективирует себя не только через властные акты применения права, но и через такие составные его элементы, как правовая идеология, правовая политика, правосознание субъектов правовых отношений, которые в принципе не должны быть предметом коллизий и нивелирования функции права. Отсюда и формы объективации этой потребности являют себя через (необходимое) единообразие в понимании одних и тех же норм как всеми судами судебной системы Российской Федерации, так и иными публичными (властными) участниками реализующихся уголовно-процессуальных отношений; критерии устойчивости судебных актов, принимаемых в ходе уголовного судопроизводства, и соответственно стабильности складывающихся на их основе правоотношений и состояний; определенность судебного прецедента и иных индивидуальных нормативных правовых актов, реализуемых органами, действующими ex officio.
В итоге, только в единстве определенности статики и динамики права, средством которого является правовая определенность, может быть обеспечено состояние (режим) стабильности и безопасности функционирования как самого государства и общества, так и «рядовых» его членов, требующих стабильности и безопасности правового статуса, правовых отношений, последствий применения права.
Список литературы Правовая определенность как фундаментальная общеправовая идея: понятие, сущность и назначение
- Анишина, В. И. Правовая определенность как конституционная ценность/В. И. Анишина, Т. Н. Назаренко//Конституция, личность и суд в современной России: материалы научной конференции памяти профессора Н. В. Витрука. -М., 2013. -С. 148-149.
- Анишина, В. И. Реализация принципа правовой определенности в российской судебной системе/В. И. Анишина, Т. Н. Назаренко//Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. -2013. -№ 2. -С. 40-47.
- Бондарь, Н. С. Правовая определенность -универсальный принцип конституционного нормоконтроля (практика Конституционного Суда РФ)/Н. С. Бондарь//Конституционное и муниципальное право. -2011. -№ 10. -С. 4-10.
- Бондарь, Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия/Н. С. Бондарь. -М., 2011. -544 c.
- Дикарев, И. С. Принцип правовой определенности и законная сила судебного решения в уголовном процессе: монография/И. С. Дикарев. -Волгоград, 2015. -175 c.
- Евлоев, И. М. Правовая определенность: принцип или критерий?/И. М. Евлоев//Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства: сборник научных трудов. -2012. -Вып. VII. -С. 250.
- Ершов, В. В. Верховенство права -концепция или доктрина?/В. В. Ершов//Российское правосудие. -2014. -№ 6 (98). -С. 5-17.
- Ковтун, Н. Н. Правовая определенность и res judicata в решениях Европейского Суда по правам человека/Н. Н. Ковтун, Д. М. Шунаев//Российский судья. -2014. -№ 9. -С. 38-42.
- Нешатаева, Т. Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права/Т. Н. Нешатаева//Вестник ВАС РФ. -2004. -№ 3. -С. 124-140.
- Пресняков, М. В. Правовая определенность и определенность прав в современном конституционно-правовом дискурсе/М. В. Пресняков//Гражданин и право. -2014. -№ 4. -С. 3-16.
- Фоков, А. П. Правовая определенность в практике Европейского Суда по правам человека по делам против России в 2014 году/А. П. Фоков, Я. М. Винокурова//Российская юстиция. -2015. -№ 1. -С. 16-17.