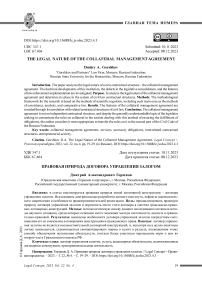Правовая природа договора управления залогом
Автор: Горшков Д.А.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье анализируется правовая природа новой договорной конструкции – договора управления залогом. Исследованы доктринальные разработки данного института, дефекты законодательного закрепления и особенности правоприменительной реализации. Цель: проанализировать правовую природу договора управления залогом и определить место этого договора в системе гражданско-правовых договорных конструкций. Методы: методологическую основу данного исследования составили методы научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: выявлены особенности договора управления залогом посредствам соотношения его со смежными договорными конструкциями гражданского права. Выводы: договор управления залогом не является несамостоятельной договорной конструкцией, и, несмотря на в целом понятную логику законодателя, стремившегося сконцентрировать нормы о залоге в разделе, посвященном этому способу обеспечения исполнения обязательств, считаем более уместным перенесение норм о нем во вторую часть Гражданского кодекса РФ.
Договор управления залогом, услуги, акцессорные обязательства, взаимосвязанные договорные конструкции, предпринимательская деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/149145039
IDR: 149145039 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.4.3
Текст научной статьи Правовая природа договора управления залогом
DOI:
Статья 356 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), специально посвященная договору управления залогом, открывается с нетипичной для гражданско-правовых договорных конструкций нормы, которая содержит констатацию факта заключения договора управления залогом и ограничивает его рамками предпринимательских отношений.
Классическая для гражданско-правовых договорных конструкций легальная дефиниция договора управления залогом содержится в абз. 2 п. 1 ст. 356 и звучит следующим образом: «по договору управления залогом управляющий залогом, действуя от имени и в интересах всех кредиторов, заключивших договор, обязуется заключить договор залога с залогодателем и (или) осуществлять все права и обязанности залогодержателя по договору залога, а кредитор (кредиторы) – компенсировать управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить ему вознаграждение, если иное не предусмотрено договором».
Разработка новых договорных конструкций в рамках реформирования гражданского законодательства направлено на создание дополнительных правовых возможностей для участников соответствующих правоотношений. Данная цель преследовалась законодателем и при введении в правовой оборот договора управления залога. Вместе с тем в силу неясности или некорректности правовых норм, участвующих в правовом регулировании данного договора, возникают дополнительные вопросы, которые необходимо решить для полноты использования правовых возможностей данного договора.
Основное содержание
В научной литературе проблематика правовой природы договора управления залогом относится к числу широко обсуждаемых. По этому поводу Ю.С. Харитонова отмечает неудач-ность помещения норм о договоре управления залогом в раздел о залоге по причине сложности уяснения в этом случае его правовой природы. По ее мнению, нет ясности от- носительно перечня существенных условий данного договора, критериев отграничения этой конструкции от смежных договоров, а также его содержательной характеристики. Предлагая свою версию определения правовой природы договора управления залогом, она замечает, что эта договорная конструкция предназначена для реализации управляющим полномочий залогодержателей, получающих в этом случае возможность «отойти от дел», что в свою очередь предопределяет возможность квалификации этого договора в качестве «услуговой» договорной конструкции посреднического типа [20, с. 15].
Аналогичный взгляд на правовую природу договора управления залогом выражен в исследовании Л.Ю. Василевской, которая в числе конституирующих признаков этого договора называет его «услуговую» направленность, акцентируя внимание на том, что речь идет об особом виде услуг, выражающихся в юридических действиях [3, с. 42]. Действительно, содержательный функционал управляющего залогом отличается большим количеством юридических услуг: заключение страховых сделок в отношении заложенного имущества; заключение имущественных сделок распорядительного или владельческого характера (п. 1 ст. 343 ГК РФ), заключение соглашения о замене и восстановлении предмета залога (ст. 345 ГК РФ), заключение соглашение о передаче договора (абз. 3 п. 1 ст. 356 ГК РФ), иные гражданско-правовые сделки. Признавая наличие в функционале управляющего залогом не только юридических, но и фактических действий, Л.Ю. Василевская подчеркивает их субсидиарный характер.
О.А. Рузакова также исходит из «услуго-вой» направленности договора управления залогом, однако при определении его правовой природы она приходит к весьма необычному выводу, заключая о наличии в рамках ст. 356 ГК РФ «двух видов договора управления залогом, имеющих разную правовую природу и разный субъектный состав: 1) договор между кредиторами, к которому подлежат применению нормы о договоре простого товарищества; 2) договор между кредитором (кредиторами) и управляющим залогом» [6, с. 124].
А.А. Завгородняя и О.С. Рыбка в совместном научном исследовании, посвященном определению правовой природы договора управления залогом, отмечают, что он является представительским договором и заключают о необходимости его отнесения к договорам об оказании услуг [9, с. 243]. Представительский характер договора управления залогом не подлежит сомнению: это подтверждается среди прочего распространением норм о договоре поручения на договор управления залогом. Названное законодательное решение означает установление в отношении договора управления залогом модели прямого представительства, при котором управляющий залогом действует от имени и в интересах всех кредиторов.
Особого внимания в рамках исследуемой проблематики заслуживает позиция И.С. Михалевской, подготовившей серию научных работ относительно правовой природы этой договорной конструкции. Так, она видит в нормах ст. 356 ГК РФ совокупность разных по своей правовой природе признаков, свойственных известным гражданскому законодательству конструкциям, и делает вывод о невозможности определения правовой природы договора управления залогом [12, с. 102]. Продолжая линию рассуждений И.С. Михалевской, можно прийти к выводу о квалификации договора управления залогом в качестве смешанного договора, однако наличие специального правового регулирования в рамках ст. 356 ГК РФ не позволяет утвердиться в сделанном предположении.
А.Л. Маковский заметил относительно правовой природы договора управления залогом, что введению института управления как нового договорного инструмента должна была предшествовать скрупулезная законодательная работа, направленная на уяснение и разъяснение правовой природы договора управления залогом, его содержания и круга общественных отношений, для которых этот договор был бы актуальным, но этого сделано не было [11, с. 24].
Правовая природа договора управления залогом может быть определена через призму таких его свойств, как направленность на оказание услуг, представительский и предпринимательский характер.
Констатируя услуговую направленность этого договора, представляется важным об- ратиться к термину «услуга» и его правовому содержанию.
Несмотря на то что гражданское законодательство содержит значительное количество «услуговых» договорных конструкций, легальное определение «услуги» в ГК РФ отсутствует. Вместе с тем законодатель дает такое определение в нормах налогового законодательства: «услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности» (п. 5 ст. 38 НК РФ). Отмечая экономический фокус определения «услуг», содержащегося в НК РФ, Л.Б. Ситдикова предлагает свою доктринальную дефиницию: «под услугой следует понимать действия (деятельность) юридического лица или гражданина-услугодателя, направленные на достижение определенного нематериального результата, удовлетворяющие потребности нуждающихся в них субъектов-услугополучателей, имеющие самостоятельную имущественную ценность и потребляемые в процессе оказания услуги» [19, с. 27].
Рассматривая договор управления залогом как «услугу», как «управление», являющееся смыслом данного договора, можно выделить следующие ее конституирующие свойства: 1) обусловленность экономической сущностью управления; 2) деятельностный характер функционала управляющего залогом; 3) направленность на удовлетворение потребностей залогодержателей; 4) моментальная потребляемость управленческой услуги; 5) отсутствие овеществленного результата от управленческой деятельности.
Договоры, направленные на оказание услуг, представляют собой достаточно обширный сегмент гражданского оборота. В научной литературе предлагаются различные классификации услуг, в основе которых лежат те или иные основания. Так, Р.В. Шмелев предлагает дифференцировать юридико-фактические услуги по такому критерию, как «характер оказываемой услуги», на юридические, фактические и смешанные, а по такому критерию, как «сфера деятельности», на консультационные, информационные, образовательные и т. д. [21].
Услуги, оказываемые по договору управления залогом, являются юридико-фактическими и осуществляются в сфере управления чужим имуществом.
В рамках определения правовой природы договора управления залогом большое научно-практическое значение имеет обращение к теории договоров, направленных на оказание юридических и (или) фактических услуг, связанных с управлением. Весьма интересное исследование на этот счет было предпринято А.А. Павловым, предложившим новую договорную конструкцию – договор управления чужими делами. Так, в своем диссертационном исследовании он рассматривает предлагаемую им новую договорную конструкцию на примере трех видов правоотношений: управление в корпоративном праве, в несостоятельности (банкротстве), в наследственном праве. Однако, как отмечает ученый, в действительности предлагаемая им договорная конструкция не ограничивается этими тремя видами частного управления. Отмечая, что термин «управление» фигурирует в первой части ГК РФ 128 раз, А.А. Павлов подчеркивает, что в числе наиболее существенных блоков частноправового управления законодатель регламентирует и договор управления залогом [16, с. 5]. Думается, что если воспринять концепцию договора управления чужими делами и обеспечить ее соответствующим корпусом правовых норм, то договор управления залогом мог бы быть признан частным случаем управления чужими делами.
Однако в отсутствие специальных норм о договоре управления чужими делами как общей договорной конструкции, потенциально применимой к договору управления залогом, важно выяснить место этого договора в системе гражданско-правовых договорных конструкций, поименованных в ГК РФ.
При определении правовой природы договора управления залогом большое значение имеет фигура управляющего залогом. Он выполняет представительский функционал, осуществляя права залогодержателей от имени и в интересах всех кредиторов. Это предопределяет важность отграничения договора управления залогом от таких смежных договорных конструкций, как договор поручения и договор простого товарищества. Связь договора управления залогом с управлением обусловливает важность отграничения этой договорной конструкции также и от договора доверительного управления, являющемуся специальной конструкцией по передаче управленческих полномочий.
В контексте настоящих рассуждений важное значение имеет содержание п. 6 ст. 356 ГК РФ, дословно содержащего следующие правила: «В части, не урегулированной настоящей статьей, если иное не вытекает из существа обязательств сторон, к обязанностям управляющего по договору управления залогом, не являющегося залогодержателем, применяются правила о договоре поручения, а к правам и обязанностям залогодержателей по отношению друг к другу применяются правила о договоре простого товарищества, заключаемом для осуществления предпринимательской деятельности» [6, с. 7]. Это означает, что законодатель напрямую отсылает к нормам о договоре поручения и договоре простого товарищества, субсидиарно применяемым к договору управления залогом. Однако законодатель не делает того же в отношении норм гражданского законодательства о договоре доверительного управления, благодаря чему возможно их применение по отношению к договору управления залогом лишь по аналогии закона.
Из процитированной нормы п. 6 ст. 356 ГК РФ следует ряд важных выводов относительно договора поручения: во-первых, правила о договоре поручения применяются к договору управления залогом только относительно обязанностей управляющего залогом и не подлежат применению по отношению к его правам; во-вторых, правила о договоре поручения применяются к договору управления залогом только в том случае, если управляющий залогом является третьим лицом и не совмещает статус управляющего залогом и залогодержателя; в-третьих, правила о договоре поручения применяются к договору управления залогом субсидиарно, что в частности означает приоритет специальных норм о договоре управления залогом, а также существа обязательства перед нормами о поручительстве. Таким образом, договор управления залогом, управляющим залогом по кото- рому выступает третье лицо, – это частный случай добровольного представительства, построенного по модели «квазипоручительс-ких» правоотношений.
О.А. Рузакова отмечает близость конструкций договора поручения и договора управления залогом, находящую проявление в нормах п.п. 1, 3 и 6 ст. 356 ГК РФ. Однако нетождественность сопоставляемых договоров обусловлена, прежде всего, запретом на осуществление прав и обязанностей залогодержателей, адресованным кредиторам (правило абз. 4 п. 1 ст. 356 ГК РФ). Иное предусмотрено нормами о договоре поручения, в рамках которого доверитель вправе выполнять права и обязанности поверенного по договору.
В.В. Витрянский критикует факт распространения норм о поручительстве на договор управления залогом, отмечает следующее: «Серьезный предпринимательский договор превращен в фидуциарную сделку, по которой, к примеру, управляющий залогом, почувствовав себя поверенным по договору поручения, в любую минуту по своему усмотрению может отказаться от исполнения своих обязанностей, что повлечет прекращение договора (ст. 977 ГК РФ)» [5, с. 218].
Еще более интересные выводы могут быть сделаны из анализа п. 6 ст. 356 ГК РФ применительно к простому товариществу. Так, правила о договоре простого товарищества применяются только в отношении прав и обязанностей залогодержателей и только в их отношениях друг с другом. Примечательно, что ученые-юристы по-разному воспринимают это нормативное предписание. К примеру, по мнению Л.Ю. Василевской, в отличие от договора простого товарищества, договор управления залогом отличается четким разделением участников соответствующего правоотношения на активную сторону и пассивную [3, с. 42]. Применение норм о договоре простого товарищества к отношениям, возникшим на основании договора управления залогом, видится А.Л. Маковскому и А.А. Певзнеру трудноосуществимым по причине того, что в отношениях между товарищами существенное значение имеет величина вклада, что не характерно для договора управления залогом [11, с. 25; 17, с. 118].
По поводу применимости к договору управления залогом правил о смежных договорных конструкциях О. Визгалин пишет: «в соответствии со ст. 356 ГК РФ к правам и обязанностям залогодержателей по отношению друг к другу применяются правила о договоре простого товарищества, что не соответствует характеру договора управления залогом. При этом применение к договору управления залогом правил о договоре поручительства почему-то относится только к случаю, когда управляющий не является залогодержателем» [4].
Сопоставление договора управления залогом и договора доверительного управления имуществом позволяет сделать следующие общие выводы. Несмотря на то что в основе сопоставляемых договорных конструкций лежит управление в его гражданско-правовом смысле, принципиальное отличие договора управления залогом от договора доверительного управления заключается в правовом положении учредителей управления. Так, по условиям договора управления залогом учредителем управления залогом может быть кредитор, не являющийся собственником имущества, а по условиям договора доверительного управления имуществом императивным требованием, предъявляемым к учредителю управления, является наличие у него правомочий собственника. Стоит поддержать В.В. Витрянского в том, что «современной цивилистической науке свойственно проводить аналогию между различными частными случаями управления чужой собственностью и обязательствами доверительного управления имуществом, что приводит к необоснованному отождествлению различных по своему содержанию институтов гражданского права» [1, с. 787].
И.С. Михалевская в одной из своих работ, посвященных договору управления залогом, приходит к следующему выводу: «В настоящее время есть договор управления залогом, который во многом, в том числе по принципиальным вопросам, соответствует агентскому договору. Поэтому есть все основания признать данный договор разновидностью агентского договора» [13, с. 101]. Эта интересная позиция требует дополнительной аргументации и может быть поставлена под сомнение. Сходство договора управления залогом со смежными договорными конструкциями заключается в направленности на оказание услуг: либо юридических, либо юридико-фактических, либо управленческих. Вместе с тем законодателем создана уникальная договорная конструкция, отличающаяся специфическим предметом, который не позволяет допустить отождествление договора управления залогом с имеющими договорными конструкциями.
На наш взгляд, договор управления залогом обладает самостоятельной правовой природой поименованного договора. Эволюция имущественных отношений способствует формированию объективной потребности в новых договорных конструкциях, отличных от имеющихся в действующем законодательстве. О.С. Иоффе на этот счет справедливо заметил: «Как только оборот принимает новые формы, так сразу же рождаются новые типы обязательств» [10, с. 146]. Если у вновь появившегося договорного отношения обнаруживается новый признак, обладающий правовыми свойствами, то в таком случае стоит говорить об объективной потребности в новом поименованном договоре [2, с. 73]. Своевременная реакция законодателя на такие отношения обеспечивает юридически значимое разнообразие экономического оборота. В то же время нельзя не признать, что право всегда отстает от жизни. При этом участники общественных отношений нередко прибегают к фактическим договорным отношениям либо моделируют новые договорные конструкции, не предусмотренные действующим законодательством. В.С. Якушев на этот счет писал следующее: «Экономическая жизнь и деловой оборот всегда шире закрепленных в законодательстве правовых форм» [23, с. 22].
Таким образом, несмотря на то что законодатель допустил применение к договору управления залогом правил о смежных ему гражданско-правовых конструкциях, признаки которых присутствуют в модели договора управления залогом, этот договор занимает самостоятельное место в системе гражданско-правовых сделок, направленных на оказание юридико-фактических услуг по причине особого значения и содержания такой услуги, как «управление».
Б.М. Гонгало отмечает обнаруженную им дифференциацию отношений, основанных на договоре управления залогом, на «внутренние» и «внешние». Так, под внутренними он понимает отношения залогодержателей между собой, а под внешними – отношения залогодержателей с управляющим залогом. Говоря о внутренних отношения, Б.М. Гонгало как раз упоминает нормы о простом товариществе, подлежащие применению к этим отношениям [7, с. 528]. Такая квалификация отношений, основанием возникновения которых является договор управления залогом, вызывает некоторые вопросы.
Договор управления залогом порождает «классическое» договорное правоотношение, в котором четко прослеживаются две корреспондирующие стороны обязательства – кредитор и должник. Безусловно, множественность на стороне кредиторов-залогодержателей несколько усложняет обязательство, но не влияет на его правовую природу. Между кредиторами-залогодержателями фактически нет никаких отношений, поскольку их отношения находятся в связке с другим участником – управляющим залогом. Однако, рассуждая далее, Б.М. Гонгало пишет про два варианта «внешних» отношений: первый вариант – это внешние отношения, возникающие между одним из залогодержателей, выполняющим одновременно функцию управления залогом, и оставшимися залогодержателями, если их несколько; второй вариант – это внешние отношения, возникающие между управляющим залогом, в роли которого фигурирует третье лицо, и залогодержателем(-ями). При этом Б.М. Гонгало достаточно просто объясняет применимость правил об иных договорных конструкциях к договору управления залогом: к первому варианту применяются нормы о ведении общих дел товарищей, а ко второ-му– нормы о договоре поручения, если положениями ст. 356 ГК РФ не установлено иное [15, с. 638].
Вероятно, законодатель, распространяя правила о простом товариществе на договор управления залогом, имел ввиду только ту ситуацию, в которой на стороне управляющего залогом выступает один из кредиторов-залогодержателей. В этом последнем случае он превращается из «управляющего залогом»
в «товарища», которому по договору поручено ведение дел от имени всех товарищей (залогодержателей). Из этого следует ряд принципиально важных выводов: во-первых, правовая природа договора управления залогом находится в увязке с правовым статусом управляющего залогом и предопределена им: если в роли управляющего залогом выступает один из кредиторов-залогодержателей, то отношения между оставшимися залогодержателями и управляющим залогом строятся по модели ведения общих дел товарищей (ст. 1044 ГК РФ), однако если в роли управляющего залогом выступает третье лицо, то отношения между ним и кредиторами складываются по модели самостоятельного поименованного договора, имеющего сходства с договором поручения. Анализ доктринальных позиций по поводу правовой природы договора управления залогом наглядно демонстрирует недостаточный учет этого фактора, хотя некоторые исследователи обнаруживают разницу в соответствующих договорных моделях. Так, Л.В. Щербачева совершенно справедливо замечает: «Договор между кредитором (кредиторами) и управляющим залогом, безусловно, отличается от договора, в котором участвуют лишь кредиторы, хотя предмет договора управления залогом в этих договорах совпадает» [22, с. 59].
Анализ правил ст. 356 ГК РФ позволяет убедиться в том, что законодатель не расставляет акценты в части предусмотренной им альтернативы договорных моделей договора управления залогом. Этот факт негативным образом сказывается на всем правовом регулировании договора управления залогом, поскольку часть норм, закрепленных в ст. 356 ГК РФ, касается только той договорной модели, управляющим залогом по которой выступает кредитор-залогодержатель, а часть – модели, управляющим залогом по которой является третье лицо. На наш взгляд, эти две модели должны быть подвергнуты дифференцированному правовому регулированию.
Проблема неучета потенциального существования двух договорных моделей договора управления залогом связана с разной правовой природой этих договорных моделей. По этому поводу И.С. Михалевская пишет «нормы ст. 356 ГК РФ не дают ответа на этот воп- рос [о правовой природе договора управления залогом], предлагая элементы конструкции двух разных договоров: договора поручения и договора простого товарищества, природа которых совершенно различна» [14, с. 70]. Так, если договор управления залогом смоделирован таким образом, что на стороне управляющего залогом участвует третье лицо, то такая договорная конструкция тяготеет к поручению и, обладая некоторыми его признаками, отличается направленностью на управление чужими делами. Однако, если договор управления залогом смоделирован по принципу участия в роли управляющего залогом кредитора-залогодержателя, то такой договор тяготеет к простому товариществу и, обладая некоторыми его признаками, отличается направленностью на ведение общих дел. Однако, обладая общим предметом, две договорные модели управления залогом, дифференцированные по правовому статусу управляющего залогом, в любом случае могут быть названы «услуговыми».
Конституирующим признаком договора управления залогом, позволяющим утверждать о самостоятельном характере этой договорной конструкции, выступает его предмет. Так, если предметом договора поручения выступают определенные юридические действия (п. 1 ст. 971 ГК РФ), которые должны быть четко конкретизированы во избежание признания такого договора незаключенным, то предмет договора управления залогом может быть детально не конкретизирован – управляющий залогом обязуется осуществлять все права и обязанности залогодержателя по договору залога. Функция управления, составляющая существо деятельности управляющего залогом, заключается в реализации прав и обязанностей залогодержателей, однако такая характеристика содержания деятельности управляющего залогом является максимально абстрактной. Примечательно, что при описании полномочий управляющего залогом, законодатель апеллирует к п. 4 ст. 185 ГК РФ, посвященному особенностям применения, правил о доверенности к отношениям, обусловленным договором, содержащим соответствующее поручение. Полномочия управляющего залогом могут быть дифференцированы на два вида в зависимости от по- требности в получении предварительного согласия кредиторов: 1) полномочия, содержащиеся в договоре и не требующие предварительного согласия кредиторов; 2) полномочия, хоть и содержащиеся в договоре, однако в силу его условий требующие предварительного согласия кредиторов.
Законодатель оставляет «открытым» вопрос о форме такого предварительного согласия, передавая, по всей видимости, его на усмотрение сторон соответствующей сделки, что не может быть признано оправданным. Полагаем, что в силу «профессионального» предпринимательского статуса управляющего залогом предварительное согласие кредиторов должно быть выражено в письменной форме. Такое уточнение направлено на превенцию юридических конфликтов и упорядочение деловой предпринимательской практики.
Что касается сопоставления предметов договора простого товарищества и договора управления залогом, то их различие еще более очевидно: в отличие от товарищей, созалого-держатели не соединяют свои вклады и не действуют совместно. По большому счету, они могут друг друга и не знать, поскольку их интересы представляет управляющий залогом.
Признавая, что определение места договора управления залогом в системе гражданско-правовых договорных конструкций связано с правовой природой исследуемой договорной конструкции, позволим себе высказать тезис о нетождественности договора управления залогом с известными российскому гражданскому правопорядку договорными конструкциями, упоминаемыми в ст. 356 ГК РФ.
Выводы
Договор управления залогом является самостоятельной договорной конструкцией, в рамках которой предусмотрены две договорные модели, поэтому считаем крайне важным определение его места в пандектной системе российского гражданского законодательства. По справедливому замечанию Ю.В. Романец, «классификация по признаку направленности является основной в системе договорного права. В этой классификации выделяются, в частности, группы договоров, направленных: на передачу имущества в собственность; на пе- редачу имущества во временное пользование; на выполнение работ (оказание услуг)» [18]. В условиях развития рыночной экономики и в особенности ее цифрового сегмента растет удельный вес «услуговых» договорных конструкций. При этом часть из них включает в себя элементы нескольких известных гражданскому законодательству договоров, а часть – представляет собой непоименованные договоры. В силу того, что договор управления залогом нормативно институализирован, обладает соответствующим корпусом правовых норм, обеспечивающих его гражданско-правовое регулирование, вряд ли обоснована его квалификация в качестве непоименованного. Признавая этот факт, видится более уместным помещение норм о договоре управления залогом во вторую часть ГК РФ.
В первой части ГК РФ расположены особые несамостоятельные договорные конструкции, которые отражают особенности заключения или специальные правовые последствия любого гражданско-правового договора, если он отвечает указанным законом признакам [8]. Очевидно, что договор управления залогом не является несамостоятельной договорной конструкцией, и, несмотря на в целом понятную логику законодателя, стремившегося сконцентрировать нормы о залоге в разделе, посвященном этому способу обеспечения исполнения обязательств, считаем более уместным перенесение норм о нем во вторую часть ГК РФ.
Список литературы Правовая природа договора управления залогом
- Брагинский, М. И. Договорное право. В 5 кн. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и об оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2002. – 1055 с.
- Братусь, С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. Братусь. – М.: Госюриздат, 1963. – 197 с.
- Василевская, Л. Ю. Правовая квалификация договора управления залогом / Л. Ю. Василевская // Закон. – 2016. – № 3. – С. 38–47.
- Визгалин, О. Управление залогом при синдицированном кредитовании: что изменилось с принятием Закона № 486-ФЗ? / О. Визгалин // Банковское кредитование. – 2018. – № 4. – С. 51–61.
- Витрянский, В. В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги / В. В. Витрянский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Статут, 2018. – 526 с.
- Гражданский кодекс Российской Федерации: Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный комментарий к § 3 главы 23 и главе 24 / под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – 269 с.
- Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. Алексеева [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. – 528 с.
- Ефимова, Л. Г. Правовая природа смарт-контракта / Л. Г. Ефимова, О. Б. Сиземова // Банковское право. – 2019. – № 1. – С. 23–30.
- Завгородняя, А. А. К вопросу о правовой природе договора управления залогом / А. А. Завгородняя, О. С. Рыбка // EurasiaScience: сб. ст. XLII Междунар. науч.-практ. конф. – М.: Актуальность.РФ, 2021. – С. 242–249.
- Иоффе, О. С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» / О. С. Иоффе. – М.: Статут, 2020. – 782 с.
- Маковский, А. Л. Собственный опыт – дорогая школа // Актуальные проблемы частного права: сб. ст. к юбилею П.В. Крашенинникова / под ред. В. В. Витрянского [и др.]. – М.: Статут, 2014. – С. 24–37.
- Михалевская, И. С. К вопросу о правовой природе договора управления залогом в гражданском праве России / И. С. Михалевская // Закон и право. – 2014. – № 10. – С. 102–110.
- Михалевская, И. С. Место договора управления залогом в системе гражданско-правовых договоров России / И. С. Михалевская // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 6. – С. 95–102.
- Михалевская, И. С. Правовые проблемы договора управления залогом / И. С. Михалевская // Закон и право. – 2014. – № 8. – С. 70–79.
- Настольная книга нотариуса. В 4 т. Т. 2. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий / Е. А. Белянская [и др.] ; под ред. И. Г. Медведева. – М.: Статут, 2015. – 638 с.
- Павлов, А. А. Договор управления чужими делами по российскому гражданскому праву: дис. ... канд. юрид. наук / Павлов Андрей Алексеевич. – Казань, 2020. – 189 c.
- Певзнер, А. А. Новеллы гражданско-правового регулирования множественности залогодержателей / А. А. Певзнер // Право и управление. XXI век. – 2016. – № 2 (39). – С. 118–124.
- Романец, Ю. В. Договор простого товарищества и подобные ему договоры (вопросы теории и судебной практики) / Ю. В. Романец // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 2. – С. 96–111.
- Ситдикова, Л. Б. Правовое регулирование отношений по возмездному оказанию услуг / Л. Б. Ситдикова. – Набереж. Челны: изд-во Камс. гос. политехн. ин-та, 2003. – С. 27–32.
- Харитонова, Ю. С. Договор управления залогом / Ю. С. Харитонова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 11. – С. 15–23.
- Шмелев, Р. В. Понятие услуги как предмета договора возмездного оказания услуг. Отличия услуги от работы / Р. В. Шмелев. – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
- Щербачева, Л. В. Управление правом залога / Л. В. Щербачева // Государственная служба и кадры. – 2015. – № 1. – С. 59–65.
- Якушев, В. С. Гражданский кодекс России (часть вторая) – продолжение формирования рыночного законодательства (общая правовая характеристика) / В. С. Якушев // Российский юридический журнал. 1996. – № 2. – С. 22–25.