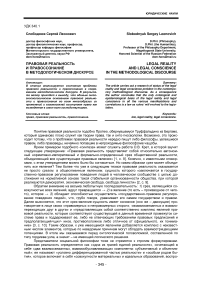Правовая реальность и правосознание в методологическом дискурсе
Автор: Слободнюк Сергей Леонович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется состояние проблемы правовой реальности и правосознания в современном методологическом дискурсе. В результате автор приходит к выводу, что единым онтогносеологическим основанием правовой реальности и правосознания во всем многообразии их проявлений и взаимосвязей выступает право как возведенная в закон воля господствующего.
Право, правовая реальность, правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14933918
IDR: 14933918 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Правовая реальность и правосознание в методологическом дискурсе
Summary: The article carries out a research of status of the legal reality and legal conscience problem in the contemporary methodological discourse. As a consequence the author concludes that the only ontological and epistemological basis of the legal reality and legal conscience in all the various manifestations and correlations is a law as rulers’ will evolved to the legislation.
Понятие правовой реальности подобно Протею, обернувшемуся Труффальдино из Бергамо, который одинаково плохо служит как теории права, так и онто-гносеологии. Возможно, это происходит потому, что о проблемах правовой реальности нередко пишут либо философы, увлекшиеся правом, либо правоведы, нечаянно попавшие в непроходимые философские чащобы.
Ярким примером подобного «синтеза» может служить работа О.В. Крет, в которой звучит следующее утверждение: «Правовая реальность представляет собой относительно автономный нормативно-императивный и формально-определенный срез общественной реальности, объединяющий все существующие правовые явления» [1, с. 9]. Конечно, с известными оговорками, с этим утверждением можно было бы согласиться. Но каким образом срез может объединить все явления? Тем более что уже в следующем тезисе правовая реальность оказывается не просто срезом , а общественным явлением , сущность которого «заключается в государственно-правовом регулировании поведения людей в человеческом сообществе с целью достижения на нормативной основе такой стабильной организованности общества, при которой реализуются демократия, экономическая свобода, свобода личности» [2, с. 9].
Обратим внимание на весьма любопытную последовательность: 1) срез, являющийся совокупностью всех явлений, вдруг превращается ^ 2) в явление (то есть - производное от чего-то), которое ^ 3) обладает способностью осуществлять «государственно-правовое регулирование поведения людей», что, грубо говоря, уравнивает его самим государством и правом. Далее выясняется, что этот срез-явление-сущность имеет основное (оно же – движущее) противоречие в лице своих «правомерных и неправомерных сторон», «взаимосвязанных и взаимо-переходящих друг в друга» и «представляющих собой соответственно комплекс явлений правовой реальности, которые соответствуют существующей в данный временной промежуток системе права и поддерживают ее, либо не отвечающих требованиям правовых предписаний и предполагающий<щих> иное, противоположное либо отличное от официального, их понимание» [3, с. 10]. Таким образом, к уже имеющимся явлениям добавляется комплекс с неизвестным числом элементов, которые по неведомым причинам могут обладать взаимоотрицающими потенциями. В итоге мы оказываемся перед онтологической головоломкой, составленной по типу гордиева узла, а значит – не имеющей логического решения.
Представители социальной философии тоже не стремятся к строгим формулировкам. Правовая реальность определяется как «одна из граней единой реальности», сочетающей в себе «два взаимосвязанных, взаимообуславливающих компонента: субъективный и объективный»; ее называют «условно дифференцированной частью реальности» и «особым родом бытия», которое включает в себя «совокупности материальных и идеальных образований, воспро- изводимых человеком, направленных на регуляцию отношений между людьми и поддержание механизмов функционирования общества» [4, с. 3, 4, 9].
Поэтому, чтобы избавить себя от лишних сложностей, примем в качестве рабочей версии следующие тезисы: «В наиболее общем виде правовую реальность можно определить как вид объективной реальности, возникающий в той области действительности, где реализуются правовые отношения между индивидуумами, индивидуумом и обществом, индивидуумом и государством» [5, с. 16]. Эта формулировка не идеальна, однако ее несомненным достоинством является корректная связка онтологического и правового элементов и отражение двух важных моментов: 1) правовая реальность объективна и 2) необходимо предполагает наличие индивидуума, вступающего в правовые отношения.
Таким образом, мы получаем некую принципиальную схему, которая вряд ли окажется полноценной, если не пояснить, что подразумевается под «объективной реальностью», и какое место в предлагаемой схеме отведено праву. Первая неувязка легко разрешается ввиду универсальности понятия «объективная реальность», одинаково приемлемого как для материалистической, так и для идеалистической картины мира: с соответствующими поправками, разумеется. Вопрос же о праве кажется гораздо более сложным, однако и он разрешим, если мы вспомним, что речь идет о принципиальной схеме. В таком случае вполне допустимо отвести праву статус онто-гносеологического основания правовой реальности во всем многообразии ее проявлений…
Теперь обратимся к понятию правосознания. По сравнению с понятием правовой реальности оно оказывается довольно расплывчатым. Так, И.Л. Честнов считает, что «правосознание выступает “другой стороной” всех форм права, воспроизводя и объективируя в ментальных представлениях каждое взаимодействие, совершающееся в правовой реальности» [6, с. 29]. Р.С. Байниязов справедливо указывает: «Правосознание в правовой реальности есть важный феномен духа, мысли, чувства… Именно оно выражает соответствующее юридическое мировоззрение, правовую теорию и идеологию, правовые чувства и настроения, определяющие юридический облик общества и государства, ценностные и иные ориентиры и приоритеты в правовом поведении личности»; и выступает «духовно-ментальной и мировоззренческо-идеологической основой правовой действительности», без которой «любой правовой процесс и институт невозможны, юридические акты немыслимы» [7, с. 3–4].
В свою очередь, В.П. Малахов предлагает подход, в рамках которого «содержанием правосознания непосредственно выступают его смысловые единицы », причем «этими смысловыми единицами являются не понятия как сгустки свойств предмета, представляющие собой содержание мысли о предмете, а понятия как концепты, то есть как условия и средства структурирования нашей мысли о реальности, придания ей правового смысла» [8, с. 170]. Преимущества подобного подхода для исследователя очевидны, ведь когда под содержанием правосознания тайно или явно понимается право , мы оказываемся «обращены к праву как к реальности», а вот когда место права занимают концепты, мы оказываемся «обращены к самому правосознанию» [9, с. 170]. Кроме того, согласно В. Малахову, «в первом случае мы рассматриваем правосознание с точки зрения отражения им социально-духовной реальности, во втором мы характеризуем его с точки зрения его активного отношения к этой реальности. В первом случае оно вторично по отношению к реальности права и является ее отражением, во втором оно должно быть понято как “замысел” права, практической деятельности людей, как их основание. Содержание первого рода подвластно научному познанию…; содержание второго рода может быть увидено и понято лишь самим правовым существом» [10, с. 170].
Каждая из представленных точек зрения имеет сильные и слабые стороны. Однако нам представляется, что никакое стремление абсолютизировать правосознание не в силах опровергнуть справедливость давних определений, согласно которым правосознание есть «одна из форм общественного сознания», «совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей к праву, законности, правосудию, их представление о том, что является правомерным или неправомерным» [11, т. 4, с. 336]. Более того, внимательно присмотревшись к бесконечному ряду формулировок, посвященных правосознанию, наиболее корректной и универсальной придется признать именно эту, несмотря на ее верность догматам марксизма. И не только потому, что она в какой-то мере примиряет собой противоположности материалистического и идеалистического мировоззрения. Дело в том, что именно такое понимание правосознания не противоречит специфическим моментам теории права, для которой «в самом общем виде правосознание – это отношение к праву», а в более развернутом виде «совокупность идей, чувств, настроений, представлений, взглядов, в которых выражается отношение к праву, правовым явлениям, в том числе к действующему и желаемому праву, к деятельности юридических органов и учреждений, а также к действиям и поступкам, совершаемым в правовой сфере» [12, с. 425].
Учитывая все названные обстоятельства, правосознание можно определить как специфическую форму общественного сознания, необходимым образом связанную с правовой реальностью . Предлагаемая формулировка, на первый взгляд, мало чем отличается от уже известных нам определений правосознания. Однако нам представляется, что некоторые отличия все же есть. И прежде всего – это придание правосознанию статуса особой формы общественного сознания и утверждение необходимого характера связи с правовой реальностью. Последняя, как мы помним, объективна и необходимым образом предполагает наличие индивидуума, вступающего в правовые отношения . Кроме того, наличие подобной связи позволяет утверждать, что правовая реальность как область бытия актуализируется в правовой действительности , а их совокупное взаимодействие с другими областями бытия становится одним из важнейших онтологических оснований правовой жизни . При этом право, которое являет собой возведенную в закон волю господствующего , обретает новый статус – статус единого онто-гносеологического основания правовой реальности и правосознания во всем многообразии их проявлений и взаимосвязей.
Ссылки:
-
1. Крет О.В. Правовая реальность: онтолого-гносеологический анализ: дис.... канд. филос. наук. Тамбов, 2007.
-
2. Там же.
-
3. Там же.
-
4. Гончаров Е.В. Правовая реальность: анализ взаимодействия субъекта и объекта: автореф.... канд. филос. наук. Тамбов, 2008.
-
5. Марайкин С.И. Философский анализ проблемы воли в правовой реальности: автореф.... канд. филос. наук. Магнитогорск, 2004.
-
6. Честнов И.Л. Принцип диалога в современной теории права (проблемы правопонимания): автореф. … д-ра юрид. наук. СПб., 2002. URL: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=107641 (дата обращения: 31.10.2012).
-
7. Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России: автореф. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1238631 (дата обращения: 31.10.2012).
-
8. Малахов В.П. Концепция философии права. М., 2007.
-
9. Там же.
-
10. Там же.
-
11. Туманов В. Правосознание // Философская энциклопедия: в 5 т. М., 1967–1970.
-
12. Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2009.