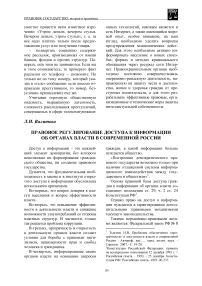Правовое регулирование доступа к информации об органах власти в современной России
Автор: Валитова Ляйсан Ильдаровна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Инновационные технологии в правоведении
Статья в выпуске: 4 (22), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются проблемы обеспечения свободы доступа населения к информации как инструмента обеспечения прав и свобод, основное внимание уделено анализу положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления».
Доступ к информации, право на информацию, пользователь информации, информация ограниченного доступа
Короткий адрес: https://sciup.org/142232320
IDR: 142232320
Текст научной статьи Правовое регулирование доступа к информации об органах власти в современной России
Доступ к информации – это важнейший элемент демократии, без которого невозможно ни формирование гражданского общества, ни создание правового государства.
Думается, что фундаментальная необходимость в законе и в институте открытого доступа к информации обусловлена несколькими причинами.
Во-первых, это вопрос доверия к власти населения и вопрос эффективности власти.
Во-вторых, это повышение эффективности в деятельности власти и снижение возможности злоупотреблений со стороны властных структур. В частности, только так решается проблема коррупции.
В-третьих, прозрачность и открытость в деятельности органов власти создает условия для борьбы с правовым нигилизмом, защищенности прав и свобод человека и гражданина.
В-четвертых, информирование самих органов власти на основании запросов граждан, в какой информации больше нуждается общество.
«Построение демократического правового государства возможно только при наличии отлаженной системы информационного взаимодействия между государством и обществом»1.
Основу правовой базы доступа граждан к информации об органах власти составляют положения ст. 29, ч. 2 ст. 24 Конституции РФ2.
Однако право на доступ к информации нуждается в гарантировании дополнительными правовыми механизмами текущего законодательства.
Такими нормативно-правовыми актами являются: Федеральный закон РФ № 8

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»1, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 2, Указ Президента РФ «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 3 и другие.
С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон РФ № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее Закон о доступе). «Столь долгожданный Закон о доступе к информации выводит Россию на новый уровень выстраивания отношений между властью, СМИ и об-ществом»4.
Закон призван урегулировать отношения по обеспечению граждан информацией о деятельности органов власти всех ветвей и уровней.
Основными принципами реализации права граждан и организаций на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в соответствии со ст. 4 данного закона являются: открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления1.
Одними из самых важных положений принятого закона являются положения о необходимости размещения основных сведений о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на официальных сайтах в сети Интернет, что является существенным шагом вперед на пути к становлению электронного государства и построения электронного правительства, впервые закон устанавливает возможность присутствия граждан на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления.
Однако, несмотря на то, что данный закон содержит прогрессивные для российского информационного законодательства моменты, в ходе анализа данного закона можно выделить следующие принципиальные проблемы.
Проблема, связанная с законодательным обеспечением правовых гарантий для граждан получать как можно более полную информацию о деятельности органов власти, относится к следующему: это различие содержания «права на доступ к информации» и «права на информацию».
«Право на доступ к информации» связанно с открытостью власти перед народом в том смысле, что в силу ст. 3 Конституции РФ народ является единственным источником власти и носителем су-
1Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" // Российская газета. - 2009. - № 4849.
веренитета в Российской Федерации, осуществляя свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления, которым он и делегировал свою власть. В этом смысле ч. 2. ст. 24 и является базовой нормой для регламентации именно «права на доступ к информации», устанавливающей, что «органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».
В свою очередь, «право на информацию» в соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ имеет более широкую интерпретацию и предполагает реализацию таких прав информационных правомочий, как «право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию».
Таким образом, Закон о доступе к информации обеспечивает только один из способов информационной деятельности в государственном управлении - доступ к информации о деятельности органов власти.
Что касается определения информации, доступ к которой ограничен, в законе отсутствует подробное изложение обстоятельств, при которых может быть отказано в предоставлении доступа к информации. Так, в Законе о доступе лишь отмечено, что «доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну». Таким образом, вместо того, чтобы конкретизировать перечень информации ограниченного доступа и четко прописать основания ограничения предоставления информации, законодатель отослал пользователя информации к иному федеральному законодательству: «перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается федеральным законом» (ч. 2. ст. 5). Основные опасения в реализации доступа к информации об органах власти можно связать со служебной тайной ввиду отсутствия специального законодательства по этому вопросу.
Также закон, как справедливо заметил В. Н. Монахов, «не включает в себя правовые позиции еще одного очень важного принципа-текста, закрепленного в законах об информационной открытости власти многих развитых стран мира. А именно: возможные ограничения должны быть, во-первых, четко прописаны законом, во-вторых, пропорциональными целям защиты и, наконец, быть необходимыми в демократическом обществе»1.
Прежде всего, необходимо принять Федеральный закон «О служебной тайне», так как до появления указанного закона, «четко регулирующего возможности должностных лиц ограничивать доступ к информации, причем закона, использующего презумпцию открытости государственных информационных ресурсов, все эти вопросы будут решаться по воле конкретных чиновников, которые всегда более склонны закрыть информацию, нежели ее открыть»2.
Следует отметить, что ч.3 ст. 19 Закона о доступе предусматривает, что при запросе информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос государственный орган, орган местного самоуправления могут ограни-
читься указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. В данном случае могут нарушаться права отдельных категорий граждан (например, при отсутствии доступа в Интернет, в силу платности услуг сети Интернет).
Важной проблемой является то, что контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления осуществляют руководители тех же самых органов, а надзор — органы прокуратуры Российской Федерации. При этом не учитывается компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по рассмотрению жалоб «на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления» (ст. 16 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»), компетенция Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации.
В большинстве стран мира для этих целей создается специальный орган либо эти функции передаются омбудсмену – уполномоченному по правам человека. Последнее рекомендует и Модельный закон СНГ «О праве на доступ к инфор-мации»1, принятый при активном участии российских законодателей.
Для осуществления надзора за соблюдением закона в нем должен быть предусмотрен независимый специализированный административный орган, такой как Уполномоченный по вопросам информации или Уполномоченный по рассмотрению жалоб. В законе должен быть четко изложен порядок обжалования отказов в предоставлении информации, а также полномочия надзорного органа.
По мнению А. Г. Рихтера «упущено, что в современной демократии участие общественности в процессе контроля и надзора за соблюдением права на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления является необходимым условием закона о доступе к такой информации и должно было быть принципиально зафиксировано в нём самом»2.
В законе не предусмотрена существующая повсеместно за рубежом форма контроля как подготовка и регулярная публикация отчета о ходе исполнения закона.
В целом, хотя в новом законе и есть положения об ответственности за нарушение права на доступ (ст. 25), однако они несут отсылочный характер.
Необходимо ориентировать законодателя на разумное сокращение тех сведений, информация о которых будет считаться закрытой. «Проще говоря, когда большинство служащих в предложении «Предоставлять нельзя скрывать», запятую автоматически будут ставить после первого слова, - тогда и наше государство сможет заслужить право называться открытым и прозрачным для граждан»3.
Таким образом, законодательство о доступе к информации об органах власти будет реально действующим в том случае, если будут четко прописаны правила отнесения информации к режиму ограниченного доступа (причем перечень ограничительных оснований должен быть исчерпывающим, не допускающим расширительного толкования), установлен реальный механизм доступа к ин- формации и конкретная ответственность должностных лиц в случае необоснованного отказа.
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКА «СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД» ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД
Сегодня охрана окружающей среды рассматривается как важная государственная задача. Мы уже не можем не замечать негативные последствия воздействия человека на природу, которые проявляются не только в деградации отдельных природных объектов, сокращении численности и исчезновении некоторых видов животных и растений, но и в климатических изменениях на всей планете, увеличении заболеваемости и смертности людей.
Особой актуальностью в сфере обеспечения экологической безопасности отличается задача охраны вод от загрязнения. Это объясняется, с одной стороны, значимостью самой воды для всего живого на Земле, с другой стороны, катастрофическим состоянием загрязненности водных объектов в России и сложностью восстановления их нарушенного экологического равновесия, преодоления процессов деградации.
Важная роль в борьбе с наиболее опасными фактами загрязнения вод принадлежит уголовному законодательству. Вместе с тем анализ следственносудебной практики свидетельствует о неадекватности реагирования правоохранительных органов на противоправное загрязнение вод. Количество возбуждаемых уголовных дел по ст. 250 Уголовного кодекса Российской Федерации не соответствует реальному количеству совершаемых противоправных деяний в сфере экологической безопасности вод.
Сотрудники правоохранительных органов во многом связывают наличие та- кой проблемы с трудностями применения ст. 250 УК РФ, основная из которых заключается в необходимости установления негативных последствий в виде существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, что является обязательным для состава данной статьи.
Специфика экологических отношений такова, что последствия загрязнения вод могут наступать спустя продолжительное время и носить не явный характер. Кроме того, негативное воздействие на окружающую природную среду, как правило, не проявляется сразу, а имеет тенденцию к накоплению отрицательных факторов, постепенно влияющих на состояние окружающей природной среды и здоровье людей. В таких случаях практически будет невозможно доказать наличие причинно-следственной связи наступившего вреда с конкретным фактом загрязнения водного объекта.
В то же время следует отметить, что даже в случае явных и немедленных негативных последствий в результате загрязнения вод практические работники испытывают сложности в установлении признака «существенного вреда».
Понятие существенного вреда закреплено в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 05.11.1998 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за эко-