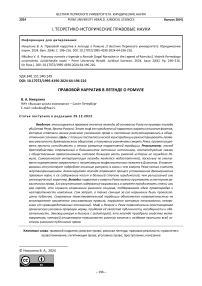Правовой нарратив в легенде о Ромуле
Автор: Никулина В.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 2 (64), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: анализируется правовое значение легенды об основании Рима на примере эпизода убийства Рема, брата Ромула. Этот миф как юридический нарратив сохранил описание фактов, которые отвечали логике римского уголовного права и постоянно актуализировались в общественном сознании.
Правовой нарратив, римское право, римская легенда, правовая реальность, правогенез, правопонимание, легитимация права, уголовное право, преступление, наказание
Короткий адрес: https://sciup.org/147244081
IDR: 147244081 | УДК: 340.151:340.149 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-64-196-216
Текст научной статьи Правовой нарратив в легенде о Ромуле
Активно развивающаяся методология постклас‐ сической юриспруденции расширяет возможности научного анализа и позволяет подойти к истории права с еще недостаточно изученной внутренней сто‐ роны. В исследовании неоценимую помощь могут оказать нарративные модели, которые – независимо от истинности повествования – контекстуализируют принятие моральных решений [50, p. 636, 649]. При‐ шедшее из историографии понятие «нарратив» пер‐ воначально обогатило юридический дискурс [20, с. 67], но теперь появилась возможность синтеза, ко‐ гда нарративный подход используется для целей ис‐ торико‐правовых исследований.
Мифы, сказания, предания всегда отражают в символической форме национально‐культурные ценности и первоначально конституировали юриди‐ ческие обычаи, которые затем становились фольк‐ лорным правом [8, с. 187–190]. Если сегодня юристы встречаются с нормой, а потом воспроизводят ее в своем анализе, описывая конкретные обстоятель‐ ства и давая этим обстоятельствам квалификацию, то обыватели часто воспринимают содержание повест‐ вования, в котором узнают или угадывают норму. В юридическом нарративе сохраняется описание лишь тех – неважно, действительных или вымышлен‐ ных – фактов, которые соответствуют национальной логике праве и актуализируются памятью потомков.
Тем самым принцип классического историзма – изобразить прошлое таким, каким оно было на самом деле (wie es eigentlich gewesen [68, p. XIV]), – требует нового осмысления. Вряд ли возможно восстановить юридическую картину изучаемой эпохи, абстрагиру‐ ясь от уже накопленных знаний о праве, опираясь на иные понятия и термины, отличные от словаря самого познающего субъекта, который опирается на соб‐ ственный опыт и правопонимание. Между тем исто‐ рический источник связан с контекстом правовой ре‐ альности, обусловившей его появление.
Противоречия могут быть сняты, если подверг‐ нуть анализу сложный нарративный диалог между источником, субъектом познания и социально‐куль‐ турными контекстами обеих (современной и изучае‐ мой) эпох [23, с. 11–12]. Модально обусловленные объекты и процедуры позволяют реконструировать прошлое, которое признается аналогом настоящего [62, p. 9, 27]. Акцент в таком исследовании перено‐ сится с того, каким было институциональное выраже‐ ние права (как право официально признавалось и транслировалось современникам), на то, каким это право могло быть в действительности в конкретную историческую эпоху (историко‐правовой реализм) с учетом возможностей реконструкции через призму постклассического правопонимания.
В настоящей статье для такого анализа выбрана легенда об основании Рима, а именно эпизод брато‐ убийства, внешне очень напоминающий преступное деяние: при возведении стены города Ромул, буду‐ щий первый царь, убивает своего брата – Рема. Именно с этим эпизодом традиционно связывается начало истории Рима, как центра формирования римской гражданской общины civitas .
Выбор предмета исследования обусловлен сле‐ дующими обстоятельствами.
Во‐первых, постклассическая парадигма позво‐ ляет изучать именно древнее право, когда устная традиция преобладала над письменной, господство‐ вало обычное право. Существовавший в архаическую эпоху синкретизм правовых и морально‐религиоз‐ ных норм наиболее ярко показывает знаково‐мен‐ тальную и ценностную опосредованность институци‐ онального проявления права, корреляцию между нормативно выраженным правопорядком и коллек‐ тивными представлениями. Поэтому легенда, до‐ шедшая до нас в письменных и археологических ма‐ териалах, становится потенциально релевантным ис‐ точником познания правовой реальности древне‐ римского общества.
Во‐вторых, помимо мифологической традиции эпизод братоубийства получает свою позитивацию в Дигестах Юстиниана1. Фиксация и подтверждение легенды в классическом формате уголовно‐правовой нормы (совершение деяния наказывается…) нельзя считать случайностью, а ее актуализация в поздне‐ римском праве позволяет изучать ее как правовую реальность. Причем это многовековая реальность, поскольку между легендарным событием (753 г. до н. э.) и его официальным нормативным подтвер‐ ждением (530–533 гг. н. э.) прошло более тысячи лет. Это обстоятельство (как и примерно такая же отда‐ ленность современного исследователя от последней даты) позволяет разглядеть ценность и подлинный смысл легенды, поскольку этим исключается «абер‐ рация близости»2. Находясь в гуще событий, вряд ли можно адекватно оценивать их суть, взгляд изнутри какой‐либо точки исторического пространства не позволяет охватить все аспекты происходящего и тем более воспринимать ситуацию в целом [24, с. 13]. Как объяснить институализацию эпизода братоубий‐ ства в Дигестах? Как могли воспринимать древние римляне этот факт, правовое значение которого ни‐ когда не оставалось застывшим и неподвижным? Возможность взглянуть на прошлое издалека, в мас‐ штабном преломлении позволяет приблизиться к от‐ ветам на поставленные вопросы.
В‐третьих, легенда о Ромуле имела важнейшее значение для «формирования римской идентично‐ сти» [84, p. 305]. Если для греков миф был прежде всего средством объяснения мира, то для римлян служил «обоснованием величия Рима» [27, с. 20]. Считается, что античные авторы уделяли больше внимания войнам и политике, а не социально‐куль‐ турным или юридическим вопросам, так как послед‐ ние не демонстрировали достижений государства и не оказывали влияния на истинный ход истории [16, с. 38, 46]. Но римская традиция, последовательно и настойчиво формировавшая и поддерживающая идею собственного величия, не скрыла и не забыла эпизод братоубийства. Видимо, он, обычно воспри‐ нимаемый как постыдное деяние, составлял неотъ‐ емлемую часть древнеримского прошлого и имел большее значение, чем просто исторический или вы‐ мышленный факт. Рассказ о поступке Ромула должен был поддерживать правовые устои древнего города, легитимируя их.
В‐четвертых, в этом эпизоде отчетливо просле‐ живается уголовно‐правовая коннотация, поскольку причинение смерти брата может получать различ‐ ные оценки: как заслуженная кара, расчетливое пре‐ ступление, месть или обычный произвол. Вряд ли возможно сегодня установить истинность этого со‐ бытия, а тем более – вскрыть его мотивы. Но пред‐ ставляется несомненным его влияние на формирова‐ ние той части римского права, которую сегодня счи‐ тают уголовным. И выбор этой легенды в качестве предмета исследования дополнительно обусловлен тем, что именно уголовное право Рима незаслу‐ женно обделено, по сравнению с гражданским, вни‐ манием отечественных юристов‐ученых. И хотя не‐ возможно реконструировать, опираясь на сохранив‐ шиеся источники, детальное содержание всех инсти‐ тутов римского уголовного права, фактический отказ от его изучения обедняет дискурс современной исто‐ рико‐правовой науки. Постклассическое понимание права требует не просто осмысления текста или буквы закона, но выхода за рамки традиционной догматики. И в этом плане изучение уголовного права древнего периода, поиск истоков его норм дают возможность подойти к формулировке «уни‐ версальных содержательных критериев уголовно‐ правовых запретов» [19, с. 139–140], приблизиться к пониманию их фундаментальных свойств (по сути – принципов), которые предопределили их действен‐ ность и преемственность между различными истори‐ ческими формами правовой реальности.
Выбор предмета и методов исследования пред‐ определил построение статьи: в первой части рас‐ сматривается отражение смерти Рема в античных ис‐ точниках; далее представлены современные истори‐ ческие оценки легенды и их краткая критика; в завер‐ шение анализируется правовая составляющая рас‐ сматриваемого нарратива и предлагается основан‐ ная на этом модель правогенеза.
Описание эпизода братоубийства в античной традиции
Предание об основании Рима дошло до нас прежде всего в текстах многих античных писателей: антикваров и грамматиков, анналистов и поэтов. Хотя они представляют различные литературные тра‐ диции и разные периоды римской истории, всех их объединяют два обстоятельства: сам сюжет и его описание спустя значительное время после мифоло‐ гической даты основания Рима.
Самое раннее упоминание конфликта братьев принадлежит поэту Квинту Эннию. В его поэме «Ан‐ налы» Рем в насмешку над Ромулом, закладываю‐ щим стены Рима, произносит: «Он доверяет, Юпитер, стене, а не рук наших силе» ( Enn. Ann. I, 101). На что Ромул отвечает: «Это, клянусь я, никто безнаказанно сделать не сможет, Кроме тебя: но и ты поплатишься кровью горячей» ( Enn. Ann. I, 102–103).
Марк Туллий Цицерон, освещая царский пе‐ риод в трактате «О государстве», ничего не пишет ни о Реме, ни о его смерти, но всячески восхваляет муд‐ рость и проницательность Ромула как основателя Рима, в частности, за удачно выбранное место3. Од‐ нако в другой его работе – «Об обязанностях» – со‐ вершенное братоубийство не скрывается, а сам про‐ ступок, нарушающий и родственные чувства, и чело‐ вечность4, осуждается, хотя и без упоминания имен.
У Диодора Сицилийского подробно описаны кон‐ фликт между братьями по поводу первенства и после‐ дующая гибель Рема, которая наступила в результате действий одного из рабочих (Целера)5, выполнившего повеление (царский указ) и нанесшего удар лопатой за прыжок через ров6. В его рассказе ясно присут‐ ствует четко выраженный запрет, за нарушение кото‐ рого следует немедленное возмездие.
Дионисий Галикарнасский воспроизводит две версии смерти Рема (в его интерпретации он – Ром): в первой, и, по его оценке, более правдоподобной, – перед основанием города из‐за толкования ауспи‐ ций между братьями возникает спор, переросший в стычку, во время которой и погибает Рем, а во второй ход событий аналогичен рассказу Диодора7. Во вто‐ рой версии Дионисия сохранена роль Целера, ров за‐ менен на стену и убрана фигура Ромула, соответ‐ ственно, в этом варианте изложения отсутствует и ка‐ кое‐либо общеобязательное повеление.
Такие же две вариации эпизода приводит Тит Ливий. Только во второй, более распространенной, по его мнению, Ромул, а не Целер, убивает своего брата со словами: «Так да погибнет всякий, кто пере‐ скочит через мои стены» (Liv. I, 7, 2). Схожим образом и Плутарх, повествуя о смерти Рема, пишет, что тот насмехался и мешал рыть ров для строительства стен будущего города8.
В отличие от предыдущих авторов, Страбон, до‐ статочно кратко изложивший историю Рима в своем труде «География», не указывает ни причин кон‐ фликта между братьями, ни виновного в смерти Рема, а сам эпизод описывает предельно лаконично9.
Достаточно репрезентативны и эмоционально окрашены рассказы древнеримских поэтов, помимо упомянутого выше Квинта Энния. Впрочем, неюри‐ дические тексты признаются основным источником сведений о праве той эпохи [48, Pp. 385–386]. И хотя поэтические произведения не могут претендовать на полную достоверность в силу присущей их авторам творческой свободы, они отражают логику древне‐ римского нарратива, причем именно правового.
Так, в героической поэме Публия Вергилия Ма‐ рона – «Энеиде» – рассматриваемый эпизод не упо‐ минается. Зато в первой песне звучат строки о зако‐ нах, которые братья дадут людям10. По мнению рим‐ ского грамматика Мавра Сервия Гонората, эти слова означали и установление правопорядка11, и сокры‐ тие братоубийства12.
Как преступление Ромула и источник будущих гражданских войн в Риме воспринимает смерть Рема Квинт Гораций Флакк в оде «К фортуне»13. Поступок Ромула у Горация драматически ассоциируется со злым роком и проклятием для римлян14. Но в «Эле‐ гиях» у Секста Проперция кровь Рема служит одновре‐ менно и сакральной жертвой15, и искуплением16.
Публий Овидий Назон, следуя традиционной версии и в русле официальной идеологии Августа, в «Фастах» подчеркивает виновность Целера в смерти Рема: во время строительства городской стены Ро‐ мул отдает распоряжение Целеру предать смерти каждого, кто «шагнет через стену иль вырытый плу‐ гом ров», а Рем, не зная о том, смеясь над низкой сте‐ ной, перепрыгивает через нее, и Целер тут же испол‐ няет распоряжение Ромула ( Оvid . Fasti IV, 835–844).
Причем у Овидия Ромул, сдерживая слезы из‐за ги‐ бели родного брата, произносит: «Так да погибнет ˂…˃ враг, что чрез стены шагнет!» ( Оvid. Fasti IV, 848).
И уже вслед за Горацием, крупнейший после Вергилия римский эпик Марк Анней Лукан напишет в «Фарсалии»: «Братскою кровью у нас забрызганы первые стены» ( Lucan . Phars. 1. 95), а римский исто‐ рик Луций Анней Флор, как и Секст Проперций, уви‐ дит в смерти Рема сакральное предназначение: «Так первая жертва освятила кровью основание но‐ вого города» ( L. Annaei Flori. Hist. Rom. I, 1, 8). Со‐ звучны этим строкам и речи этолийцев в труде Пом‐ пея Трога «История Филиппа», дошедшего до нас в эпитоме Марка Юниана Юстина: «Да и самый свой город они заложили на братоубийстве и основание своих стен забрызгали кровью братской» ( Just . XXVIII. 2. 10).
Негативное отношение к братоубийству станет начиная с конца IV в. н. э. доминирующим у филосо‐ фов, мыслителей и историков. Аврелий Августин ис‐ пользует это эпизод, чтобы осудить язычество в трак‐ тате «О граде Божьем». Поступок Ромула он расце‐ нил как убийство, обусловленное «злом враждеб‐ ного разногласия» (III, 12) и желанием править еди‐ нолично (III, 13). В эпоху императора Юстиниана ви‐ зантийский писатель Иоанн Лид в сочинении «О ма‐ гистратах», описывая царскую власть древнего Рима, назвал Ромула тираном, избавившимся от старшего брата ( Ioan. Lyd . De Mag. I. 5, (1)). Трудно поверить, что Иоанн Лид не был знаком с Дигестами, но его оценка отчетливо диссонирует с официальной ин‐ терпретацией ( Dig. I, VIII, 11).
Отдельного упоминания заслуживает сочине‐ ние историка Секста Аврелия Виктора «О знамени‐ тых людях», где автор находит весьма интересное и важное для настоящего исследования объяснение поступку Ромула – укрепление Рима законами17. Тем самым легендарный факт создавал фундамент всего римского правопорядка.
Иногда спор между братьями и его печальная развязка не упоминаются. Так, Веллей Патеркул в «Римской истории» называет только Ромула, осно‐ вавшего Город при поддержке легионов своего деда Латина ( Vell. Paterc . I, 8, 4–5). Однако это скорее ис‐ ключение.
В большинстве случаев анализируемый эпизод отражен в античных источниках [38, Pp. 222–235]. В них обычно различаются версии о том, кто же нанес смертельный удар Рему. Чаще в этом римляне обви‐ няли самого Ромула, реже – Целера. Однако связь последнего с Ромулом настолько очевидна18, что по‐ служила основой для версии об их идентичности [11, с. 55]. Здесь имеет место традиционная нарративная схема: в диалоге между рассказчиком (писателем) и слушателем (читателем) формируется цель, достиже‐ нию которой мешал оппонент (Рем), а помогал – Це‐ лер. И при наличии отдельных расхождений в дета‐ лях общая картина древнеримских повествований сводится к тому, что Рем погибает в стычке, возник‐ шей при начале строительства города.
Имеются и альтернативные варианты изложе‐ ния повода для конфликта братьев: либо как спор о результатах ауспиций, либо как следствие прыжка через строящуюся стену или выкапываемый ров. Но сам факт того, что легенда о смерти Рема представ‐ лена двумя версиями преодоления им границы го‐ рода, свидетельствует о более раннем возникнове‐ нии именно этого варианта описания событий. Его безоговорочно включает в первоначальное содержа‐ ние легенды И. В. Нетушил, признавая за ней подлин‐ ность народного предания19. Опираясь на археологи‐ ческие данные, А. Карандини (A. Carandini) приходит к такому же выводу: версия смерти Рема от рук Ро‐ мула из‐за стен (рва) будущего города является са‐ мой древней и мифически подлинной [38, Pp. 443– 446]. Иные же варианты изложения событий явля‐ ются, скорее всего, искусственным наслоением, пре‐ следующим цель снять с Ромула ответственность, обелить царя‐основателя, что отмечено как А. Швег‐ лером [73, S. 389, 436–437], так и другими авторами [63, p. 54; 80, S. 156–157, 213; 42, p. 82]. Действи‐ тельно, описание смерти Рема из‐за спора братьев выглядит слишком приземленно и обыденно, имеет черты «рационализаторства» античных авторов, где герои сводятся к формату «обычных» людей [80, S. 156], тем самым выпадает из апологетики всего повествования, разрушая его цельность. Не случайно и в Дигестах провозглашена неприкосно‐ венность городских стен, тем самым версия прыжка Ромула получила и свое нормативное признание, ко‐ торое вряд ли было бы возможно без совпадения ле‐ генды с общественным правосознанием.
Именно в этом проявлялась ее нарративная цель, с которой связано сохранение и в официаль‐ ной, и в народной истории Рима не только величия Ромула как основателя государства, но и описания братоубийства, очевидно имевшего правовое значе‐ ние. Само наличие различных версий и гибкость ле‐ гендарной традиции только подтверждают древ‐ ность этого эпизода, который древние писатели могли легко скрыть, если бы захотели20, поскольку подобное деяние само по себе в большинстве этно‐ сов осуждается. Да и в античных источниках Ромул хотя бы частично признается ответственным за смерть своего близнеца [38, Pp. 440–441], даже если сам удар нанес Целер.
Тем самым можно обнаружить трансформацию оценки этого события с течением времени. Видимо, у истоков нарративной традиции поступок Ромула не обладал той негативной коннотацией, какую он при‐ обрел в работах более поздних эпох [65, p. 282]. Каж‐ дый античный источник обладает своей социально‐ культурной и исторической контекстуальностью: каж‐ дый автор опирался на доступный, понятный и близ‐ кий ему материал, обладал своим мироощущением и мировоззрением, обусловленным не только проис‐ хождением, уровнем образования и социальным ста‐ тусом, но и морально‐идеологическими императи‐ вами своей эпохи, тех событий, во время которых он жил и творил. Поэтому важно дать историко‐право‐ вую оценку факту устойчивости римской повествова‐ тельной традиции.
Оценка поступка Ромула современными исследователями
Главным предметом обсуждения легенды об основании Рима обычно выступает вопрос о ее до‐ стоверности и интерпретационном значении. Чаще всего исследователи признают подлинность лишь от‐ дельных исторических событий, причем имевших место позже эпохи первого римского царя. В эпизоде братоубийства ученые в основном видят не действи‐ тельный факт, а скрытую в нем проблематику, сим‐ волический смысл которой необходимо выявить и объяснить.
Большинство современных интерпретаций осно‐ вано на поиске параллельных сюжетов о близнецах21 в мировой мифологии и интерференции еще более древних преданий на древнеримский нарратив.
Так, Ж. Дюмезиль, исследуя индоевропейскую мифологию о братьях‐близнецах и отождествляя Ро‐ мула и Рема с божествами, аналогичными греческим Диоскурам и ведическим Ашвинам, видел в смерти Рема лишнее свидетельство «сугубо национальной» особенности религии римлян – признание «осново‐ положной единственности» Верховности или вер‐ ховного бога: «…одна из интерпретаций Квирина сделает из него близнеца, но даже тогда, через него, место в пантеоне займет только Ромул, без Рема» [5, с. 113–114]. Такой подход, также развиваемый Д. Брикелем, направлен, прежде всего, на поиск вне‐ временных трифункциональных структур, общих для социумов с индоевропейским языком, поэтому и ле‐ генда об основании Рима выступает транспозицией индоевропейского мифа [34, Pp. 41–70]. Наличие в легенде о Ромуле нарративных элементов, общих с другими народами, позволяет признать за ней право быть подлинно древнейшей и соответствующей ар‐ хаическому периоду Рима [35]. Согласно обнаружи‐ ваемой в мифе трифункциональной идеологии убий‐ ство Рема является необходимым звеном, символи‐ зирующим создание нового мира культуры – циви‐ лизации, где Ромул, уважающий божественный по‐ рядок и цивилизованное пространство, противопо‐ ставляется Рему, отождествляющему себя с Фавном, божеством леса и дикой природы, и потому олице‐ творяющему хаос и дикость, для которых нет места в пространстве города [36, p. 147].
Нарративное противопоставление одного ми‐ ропорядка другому развивается и другими исследо‐ вателями. К. Ве ( K. K. Vé ) видит в образе убитого бра‐ та типичного представителя дикого мира22. А. Маст‐ рочинке ( A. Mastrocinque ) особо выделяет противо‐ положность Рема и Ромула, который преодолел про‐ шлое с помощью законов23. Тем самым, убивая Рема, Ромул создает не просто цивилизацию, но цивилиза‐ цию права.
Ряд авторов анализируют антагонизм близне‐ цов, восходящий к индоевропейской мифологии, че‐ рез идею поединка или состязания, в котором побе‐ дитель может быть только один. Так, А. В. Коптев счи‐ тает эпизод братоубийства отражением древнерим‐ ских обрядов, где соперничество Ромула и Рема в роли первых луперков олицетворяет борьбу между старым и новым годом и их смену [12, с. 179]. Исследуя мифологическую историю царей Лация,
Ю. Б. Циркин выявляет традиционную матрицу (власть достается одному из двух претендентов), поэтому и спор братьев мог разрешиться только убийством од‐ ного из них [26, с. 116]. Для древней традиции смер‐ тельных состязаний по завоеванию трона красноре‐ чиво суждение Аврелия Августина о братьях, добива‐ ющихся славы24, но в свете его теологии поединок между Ромулом и Ремом оказывается еще и вечным символом междуусобий в земном царстве [7, с. 46, 211]. Не случайно, в легенде видят предзнаменова‐ ние гражданских войн, вызванных выбранной са‐ мими римлянами идеей об основании своего города братоубийцей [49, Pp. 406–407; 44, p. 28; 30, Pp. 10– 11, 158–159]. В таком дискурсе римская история вы‐ ступает как череда гражданских войн, каждая из ко‐ торых сеет семена преемственности: «…борьба между римлянами составляет вечный цикл повторе‐ ний и жестокость беспрестанно возрастает от одного к другому» [49, p. 48], а «братоубийство становится яркой аналогией общественных и личных конфлик‐ тов, порожденных гражданской борьбой» [30, p. 10].
В представленных интерпретациях преобладает символическая (аллегорическая) составляющая. Од‐ нако их авторы не замечают правового компонента, тогда как именно право по своему назначению при‐ звано сдерживать антагонизм между людьми, предотвращать и разрешать конфликты. Кроме того, они не учитывают, что в Дигесты как собрание лучших юридических установлений, достигнутых за весь пе‐ риод римской истории, легенда вошла не в качестве образца определения победителя состязания и не в качестве примера наделения правителя властью.
Поэтому аллегорическая трактовка представля‐ ется недостаточно обоснованной. Тем более что «римские мифы по большей части носят не символи‐ ческий характер, а укоренены в религиозных идеях» [73, S. 436].
Иной вывод из сравнения схемы древнерим‐ ской легенды с сюжетами о других основателях царств из индоевропейской мифологии делает А. Ка‐ рандини (A. Carandini). В его трактовке анализируе‐ мый эпизод символизирует радикальный переход протогородского сообщества с диархическими струк‐ турами к городской централизованной системе. Новая система (город –государство) рождается на ос‐ нове Палатина, окруженного священными стенами, и встает под покровительство Юпитера [38, Pp. 446– 447]. При этом делается акцент на сакральном харак‐ тере стены, ограничивающей и определяющей померий (pomerium) [29, Pp. 141–142; 10, с. 42–103; 40, Pp. 25–29], а потому убийство Рема объясняется совершением им самим святотатственного проступка, посягнувшего на неприкосновенную святыню.
Напротив, П. Грималь оценивает поступок Ро‐ мула как преступный и отвратительный, хотя и при‐ знает его важность и необходимость, даже вынужден‐ ность для древних римлян, поскольку «он мистически предопределял будущее и закреплял, как казалось, навечно, неприкосновенность города» [3, с. 19].
Тем самым принципиально различаются оценки того, кто совершил преступление (переступил через запрет) – Рем или Ромул. И укреплялись стены возмез‐ дием за их нарушение или кровью невинного?
Основываясь на трактовке священности стен, Дж. Каир (G. Cairo) приходит к выводу о ритуальном характере убийства Рема, поскольку нередко цере‐ мония основания города сопровождалась действи‐ ями, имеющими сходное значение. А в результате: «кровь Рема, убитого Ромулом при попытке перелезть через стены нового города, фактически обеспечила изгнание из города злых сил, которые продолжали присутствовать за его пределами» [37, p. 62].
Тема сакральной жертвы развивается и дру‐ гими исследователями. Поступок Ромула рассмат‐ ривается как религиозный акт, широко распростра‐ ненный во многих, не только индоевропейской, ци‐ вилизациях, где «человеческое жертвоприношение (или его замена) было неотъемлемой частью неко‐ торых ритуалов основания городов или возведения на престол царя» [65, p. 282]. Либо подчеркиваются и равенство братьев, и связь универсальной двой‐ ной мифологемы близнецов с «темой суверенитета и очищением основания» [58, p. 137]. Соответ‐ ственно, причинение смерти одному из них высту‐ пает жертвой, укрепляющей фундамент стен буду‐ щего города [57, Pp. 87–88], а отрицательность Рема, символизированная совершенным им нару‐ шением запрета, определяет ему окончательное место – за «пределами пространства, ограничен‐ ного померием» [57, p. 88].
Трактовка Рема как сакральной жертвы вызы‐ вает возражение, поскольку римляне, знавшие и ис‐ пользовавшие в своей повседневной практике жерт‐ воприношения, не стали бы скрывать сам ритуал. Ко‐ нечно, пролитая кровь могла символически скреп‐ лять стены, но вряд ли это событие вызывало бы то‐ гда столь разные этико‐правовые оценки.
Таким образом, транспозиция древнейшей мифо‐ логической парадигмы, в том числе и модели братьев (близнецов), продемонстрированная во многих ин‐ терпретационных схемах, достаточно поливариатив‐ на. Однако сами исследователи вынуждены признать, что братоубийство выступает исключительным сюже‐ том древней мифологии25, не имеющим аналогов [36, p. 180], а соперничество между братьями в большин‐ стве своем не приводит к смерти одного из них [38, p. 450; 30, p. 4; 36, Pp. 176–180; 82, p. 16].
Поэтому другой вариант интерпретации в каче‐ стве отправной точки использует идею об искус‐ ственности повествования о близнецах, что снимает вопрос о поиске подходящих аналогов в древнейшей мифологии и ставит цель – выявить идеи или собы‐ тия, которые лежали в основе создания нарратива. Модель братьев объясняет происхождение и эволю‐ цию государственных институтов, политического со‐ юза и т. п.
Исходя из отсутствия убедительных параллелей в мифологическом материале других народов и на основе письменных и археологических данных уче‐ ные определяют конец IV века до н. э. как время воз‐ никновения легенды [82, p. 16, 89; 67, p. 127; 53, p. 117]. В этот период установившееся четкое разде‐ ление власти между патрициями и плебеями создает необходимые условия для появления истории о близнецах, «новое равенство» [82, p. 107]. Анализ Т. П. Уайзмана наглядно демонстрирует этапы эво‐ люции мифа о Реме: от отождествления с предводи‐ телем патрицианского рода Фабиев и победителем луперков [82, Pp. 126, 140], через олицетворение с плебеями и персонификацию в фигуре плебейского консула П. Деция Муса, чье самопожертвование в 295 г. до н. э. в битве при Сентине якобы перело‐ мило ход войны в пользу римлян [82, p. 140], до «зло‐ вещего образца братоубийственных войн» [82, p. 141]. В этой концепции смерть Рема выступает жертвопри‐ ношением для обеспечения безопасности и неуязви‐ мости Рима, а своему появлению в легенде этот эле‐ мент обязан кризису 296–295 гг. до н. э., когда рим‐ ляне прибегли к реальному человеческому жертво‐ приношению перед решающей битвой при Сентине против объединенной армии этрусков, галлов и сам‐ нитов26. Полностью разделяя эту теорию, Г. Форсайт (G. Forsythe) замечает, что в такой интерпретации, еще и подкрепленной археологическими раскоп‐ ками, можно действительно наблюдать «слияние ис‐ тории и мифа» [45, p. 333].
Еще одна трактовка, основанная на наделении нарратива чертами более поздней эпохи, предпола‐ гает, что включение в повествование эпизода убийства Рема вызвано желанием римлян времен Республики подчеркнуть негативные стороны regnum , правления одного, считающимся «наследственным злом», а в миф спроецирована идея свободы [54, Pp. 11–13].
Все обозначенные герменевтические направле‐ ния, как признающие подлинность древнеримского предания с транспозицией универсального мифоло‐ гического ядра, так и усматривающие в нем истори‐ ческий суррогат, зародившийся в более поздних поли‐ тических условиях, тесно взаимосвязаны, и их четкая дифференциация весьма условна и относительна. Символическое прочтение мифа не вытесняется пол‐ ностью ритуально‐социологическим подходом, а по‐ следний, в свою очередь, может пересекаться с психо‐ логической интерпретацией предания.
Не вдаваясь в детальный анализ представлен‐ ных интерпретационных схем, обратим внимание на следующие моменты.
Во‐первых, несмотря на древнейший и универ‐ сальный мотив поединка или соперничества, остается не до конца ясным источник конфликта в эпизоде смерти Рема. Согласно мифу близнецы до трагиче‐ ской развязки не были антагонистами и уж тем более «архетипами непримиримой вражды» [7, с. 213], вы‐ явленные в легенде отдельные намеки на будущий конфликт братьев в трактовке ученых носят гипотети‐ ческий характер и, если все‐таки присутствуют, то ис‐ ключительно в имплицитной форме27.
Во‐вторых, антагонизм братьев в виде противо‐ поставления города и догородской или сельской структуры может быть виден только «издалека», спу‐ стя столетия. Непосредственно же в момент зарож‐ дения легенды и в период ее эволюции вряд ли по‐ добная оппозиция могла быть актуализирована в об‐ щественном сознании, для которого культурная или цивилизационная трансформация проходила плав‐ но. Справедлив вывод, что «римские писатели нико‐ гда не связывали Ромула, в отличие от предыдущих мифических фигур, таких как Сатурн, с внедрением новой экономической системы» [70, p. 94].
В‐третьих, такие интерпретации упускают или не учитывают тот факт, что Ромул и Рем были не про‐ сто братьями, но близнецами, что в контексте устной традиции несло дополнительный смысл. Маловеро‐ ятно, что актуализированный событиями междоусоб‐ ных войн эпизод братоубийства действительно был нарративным прологом будущей вражды. Скорее, гражданские войны придали ему подходящее объяс‐ нение, а само появление поступка Ромула в древнем предании не было ни предвосхищением, ни предзна‐ менованием будущих распрей.
В‐четвертых, во всех древнеримских вариантах рассказа отсутствуют подробные описания проце‐ дуры или каких‐либо других элементов ритуала, не‐ обходимых для «принятия» богами жертвы28. Эта ла‐ куна контрастирует с изображением в легенде иных религиозных актов, в частности, с детальным расска‐ зом о церемониальных действиях Ромула по обозна‐ чению границ будущего города ( Dion . I, 88), воспро‐ изведением произнесенного П. Децием Мусом за‐ клинания перед принесением себя в жертву ( Liv . VIII, 9, 4–9). В античных источниках идея жертвоприноше‐ ния в смерти Рема отсутствовала, в противном случае она выпадала из идеологии архаической римской религии – «скрупулезного внимания к различным формулам» [16, с. 134], с тем чтобы человек безоши‐ бочно выполнял обряды29 тщательного поклонения, и только в этом случае он мог быть уверен в своем понимании божеством [32, p. 54].
Хотя понимание смерти Рема как древнейшего принесения человеческой жертвы укладывается в универсальный мифологический контекст, остается открытым вопрос: как удалось «спрятать» даже намеки на элементы обряда жертвоприношения и почему все‐таки с устранением их непосредственно факт гибели Рема в легенде сохранился? Даже трак‐ товка Т. П. Уайзмана, позволяющая ответить на дан‐ ный вопрос, перестает быть убедительной, когда до‐ ходит до экспликации нарушения Ремом неприкос‐ новенности стен, которое не слишком гармонично укладывается в схему британского ученого. На посту‐ пок (проступок) Рема как причину его гибели в той или иной степени указывали практически все антич‐ ные источники. Показательно, что многие интерпре‐ тационные схемы, хотя и построены вокруг прыжка Рема через ров (стену), не фокусируются на этом со‐ бытии, а пытаются разглядеть в нем иной, скрытый и, по мнению ученых, более глубокий смысл. Но мо‐ жет быть, именно совершенное Ремом нарушение и было тем центральным и необходимым пунктом легенды? Это закономерно подводит к необходимо‐ сти дать еще одну интерпретацию эпизоду брато‐ убийства – правовую.
Правовая оценка поступка Ромула
Предложив еще в XIX веке рассматривать ле‐ генду об основании Рима как этиологический миф, А. Швеглер (A. Schwegler) увидел в ней также подлин‐ ные элементы древнеримской правовой традиции, которые «являются относительно наиболее надеж‐ ными, представляющими собой фактическое ядро и скелет передаваемой истории древнейшего Рима» [73, S. 62]. Поэтому, даже отстаивая присутствие мо‐ тива мифологического дуализма в виде антагонизма близнецов, немецкий исследователь находил в по‐ ступке Ромула древнее правовое обоснование30. Дей‐ ствительность и общий характер запрета получают ис‐ ключительно сильное подкрепление в таком при‐ мере, притом что в момент начала строительства стены ее можно переступить (приложив для этого ми‐ нимальные физические усилия), а субъектом деяния является самый близкий из кровных родственников.
Признание за легендой правовой традиции полу‐ чила поддержку и других ученых. Так, А. Фраскетти (A. Fraschetti), метафорично оценивая Рема как носи‐ теля «диких» качеств и тем самым противопоставляя его упорядоченному миру города в лице Ромула, тем не менее, расценивает его смерть в качестве наказа‐ ния за нарушение святости и неприкосновенности стен, изначальное значение которых, по мнению уче‐ ного, Рем не мог понять [46, Pp. 32–35]. Также Р. Вер‐ дье (R. Verdier) рассматривает братоубийство как про‐ стой ответ на кощунство и относит его к сфере боже‐ ственного, а потому выходящего за пределы челове‐ ческой морали и справедливости, вследствие чего считает анахронизмом интерпретации Цицерона, Го‐ рация, Вергилия и Августина [78, p. 23].
Итальянский профессор Дж. Де Санктис (G. De Sanctis), используя антропологический подход и опираясь на категории sacrum/sanctum и представ‐ ления у римлян о сакральности границ, доходящие до «одержимости» богом границ Термином (Terminus), видит в поступке Ромула правило, «первый, суровый урок римлянам» [71, p. 139]. Легенда подтверждает отнесение стен к res sanctae, неприкосновенность ко‐ торых подкреплена санкцией, и смерть Рема зани‐ мает место искупительной жертвы, восстанавливаю‐ щей нарушенный sanctitas [71, Pp. 140–142]. Схож вывод Кастьелло (A. Castiello) о том, что «первая за‐ поведь города лежит в самой стене» [40, p. 40]. В остальном эпизод братоубийства считается искус‐ ственной реконструкцией эпохи Августа, которая носит символическое значение, предполагает, что Ромул, наметив борозду для будущих стен, продик‐ товал закон (как Юпитер, вносящий порядок в хаос, устанавливающий границы городов и создающий правила) [40, p. 40]. Тем самым легенда отражает процесс установления первых норм права.
Приведенные правовые оценки эпизода бра‐ тоубийства, тем не менее, не раскрывают ни осо‐ бенностей правогенеза, ни самой нормы. С позиции классического правопонимания можно отметить, что если смерть Рема расценивается как наказание, значит, должна быть корреспондирующая ему пра‐ вовая норма, источником которой служат либо обы‐ чаи предков ( mores maiorum ), либо царские законы ( leges regiae ).
В постклассической методологии сама легенда, выступая, по словам П. Грималя, выражением «пси‐ хологии коллективной души Рима» [3, с. 21], может признаваться источником архаического права. Более того, Р. Вердье (R. Verdier) сравнивает значение Ро‐ мула для Рима с ролью Моисея для Израиля и при‐ знает древнеримский царский эпос, пусть и леген‐ дарный, источником правды о человеке, обществе и их правах, поскольку такой «номогонический» (а не космогонический) миф рассказывает об основах права [78, p. 4].
Независимо от своей подлинности «каждое пре‐ дание содержит выражение народного образа мыс‐ лей ˂…˃ все‐таки имеет психологическую правду и полно значения для всего образа мыслей и чувств народа» [6, с. 83–84]. И такое ценностно‐ориентаци‐ онное и социо‐нормативное значение нарратива со‐ храняется до тех пор, пока в него верят, его «пережи‐ вают», а содержание мифологического, как и религи‐ озного, сознания служит критерием правильного/не‐ правильного и «изначально заключает в себе то, что в формальном праве разведено, – легитимность и ле‐ гальность порядка» [2, с. 47]. Тем самым коллектив‐ ные представления архаической эпохи формировали свои образцы должного и недолжного.
Данный тезис выдвигает на первый план не про‐ блему исторической достоверности легенды31, а по‐ иск причин закрепления определенной повествова‐ тельной конструкции. Прошлое, независимо от спосо‐ бов передачи, фиксации, сохранения в памяти, всегда «есть определенная разновидность прочтения насто‐ ящего» [18, с. 138]. Историческая достоверность, под‐ линность легенды и ее интерпретационная эволюция обнаруживают себя на разных уровнях восприятия ре‐ альности. Закономерно, что искусственное или вы‐ мышленное, за редким исключением, не может уко‐ рениться надолго, если только не найдет своего под‐ тверждения в архетипах общественного сознания.
Тем самым в нарративе важен сам процесс мыслен‐ ного диалога между рассказчиком (писателем) и слу‐ шателем (читателем).
Однако противопоставление поддельного и подлинного, ложного и истинного появляется только тогда, когда предание становится объектом обособ‐ ленного дискурса, а первоначально «мифологиче‐ ские представления, религии и верования не могут подпадать под область вымысла, потому что они сразу принимаются за правду» [60, p. 17]. Порой тра‐ диция, как и легенда, становится детищем настоя‐ щего, которое наделяет ее архаическими атрибутами для легитимации более поздних практик.
Необходимо определить: имеет ли нарративная традиция значение только для того, чтобы трансфор‐ мироваться под потребности современности, в поли‐ тических интересах [83, p. 294], или искусственно со‐ зданное прошлое сосуществует с истинно древним, легитимированным не одним поколением римлян32. Настоящее, неизменно переходя в прошлое, транс‐ формирует не просто миф, но и отношение к нему, со‐ здавая новые интерпретационные схемы. При этом нарративный канон не может быть положен в основу разделения мифического и придуманного, поскольку он покоится лишь на неустойчивом статистическом принципе: «канонично только то, что представлено преимущественно» [60, p. 22], а потому легенда по‐ датлива мнению аудитории. Тем более, как выска‐ зался Дж. Шейд (J. Scheid), «ортодоксальность» у рим‐ лян присутствовала не в верованиях, а в обрядах [72, p. 593]. В нарративном материале, в котором от‐ дельно взятый «миф обычно оперирует противопо‐ ставлениями» [14, с. 235], постоянно одна часть отвер‐ гается, а другая, наоборот, актуализируется, как и в об‐ щей системе социально‐культурных представлений могут меняться модели должного и недолжного, одни противоречия заменяются другими.
Легенды не возникают единовременно, их нельзя воспринимать как готовый материал, это все‐ гда процесс. И даже возникновение письменности не останавливает мифотворчество: вводятся новые ге‐ рои и оттенки, рисуются новые детали, но всегда остается что‐то неизменное, с самой древности, свя‐ зывающее прошлое с настоящим, ведь старое не умирает сразу с появлением нового, оно постепенно выходит из употребления или «изнашивается», но медленнее и сложнее, чем может показаться на пер‐ вый взгляд («с появлением нового старое не уми‐ рает» [21, с. 248]). Миф всегда ретроспективен, а вы‐ мысел – это измерение другого уровня смыслового пространства, он принадлежит моменту отношений, которые публика (зритель или слушатель) поддержи‐ вает с культурным контекстом, где рождаются образ, песня, стихотворение, и потому определяется своего рода [общественным] договором [60, p. 29].
Право находится на одном уровне с вымыслом, оно тоже относится к тезаурусу отношений, точнее – коммуникации, актуализированной в данный кон‐ кретный момент. Но вместе с тем право и ретроспек‐ тивно, поскольку оценивает то, что уже случилось, и перспективно – служит будущему. И на этом вневре‐ менном уровне миф и право могут совпадать, по‐ скольку первый в равной мере служит объяснению прошлого, настоящего и будущего [14, с. 218]. В древ‐ нее предание, как отражение установившегося ми‐ ропорядка и формы человеческого бытия, встроены различного рода социальные нормы, в том числе и правовые, которые для каждого нового поколения людей проходят проверку на истинность, а по сути, на легитимность и действительность. Подлинно пра‐ вовое содержание, служащее сохранению и выжива‐ нию социума, консервируется надолго, переходя из одного мифа в другой, оно успешно проходит такую проверку, тем самым подтверждается и его легитим‐ ность. Когда же миф перестает «переживаться», пре‐ вращаясь из подлинного в «псевдомиф» [25, с. 337], он переходит в область вымысла, в связи с чем его нормативное ядро теряет и признание, и понимание, заменяясь новыми формами в системе социальной регуляции.
Изучая первобытное мышление, К. Леви‐Стросс ввел понятие «мифемы» – большие структурные единицы, составляющие своеобразную систему ко‐ ординат мифа. Они служат упорядочиванию всего мифологического многообразия, выполняя специ‐ альную функцию повторения, ретранслируясь в раз‐ личных вариантах мифа [14, с. 213–242]. Структура‐ листская интерпретация мифа позволяет выявить в нем устойчивые связи и оппозиции, соответствую‐ щие жизненным противоречиям (например, мифо‐ логические конфликт и соперничество братьев), но мифемы дают возможность «снять» эти противоре‐ чия, точнее, предлагают некую «логическую модель» [25, с. 60] для их разрешения.
Также и право, как выражение человека и его культуры, формируется и формулируется именно в контрастирующих парах или даже парах оппозиции [78, p. 25]. Исторически именно в структуре базовых представлений техники бинарных противопостав‐ лений протекал процесс перехода социальных от‐ ношений от традиционных к современным формам и практикам их правовой организации [1, с. 19]. Тем самым исследование древнеримского мифа позво‐ ляет постичь «дуалистические элементарные фор‐ мы юридического мышления и жизни» [78, p. 25]. В результате можно обнаружить, что категория «ми‐ фема» несет большее значение, чем просто функци‐ ональное и психотерапевтическое, а содержание ее богаче и не сводимо лишь к логической форме или отношению.
Репликация мифем не была случайной. Они коррелировали с чем‐то важным и необходимым для поддержания человеческого общежития, по‐ этому и несли в себе регулятивный или социо‐норма‐ тивный заряд, доступный для понимания скорее ар‐ хетипическому сознанию, чем современному. И ле‐ генда об основании Рима как многослойное, разно‐ временное и неоднородное сказание также содер‐ жала мифемы, которые были образованы элемен‐ тами древнейшего наследия.
С этой точки зрения в эпизоде братоубийства прежде всего следует дать оценку поведения Рема. Можно обнаружить, что модель его деяния – прыжка через ров или стену – оказывается не менее древней, чем сама легенда. Этот сюжет был вербализирован уже в греческой мифологии [38, p. 449]. До нас дошли два эпизода смерти после прыжка через ров: один в описании александрийского грамматика Апполо‐ дора (II в. до н. э.), собравшего в своем труде «Мифо‐ логическая библиотека» древнейшие сказания элли‐ нов33, второй – в «Греческих вопросах» Плутарха34. В греческом мифе тема преодоления городской гра‐ ницы, хотя и связана со смертью героя, оказывается отличной от темы столкновения между братьями или близнецами, поскольку иллюстрируется через пару отец – сын или вообще отдельных людей [38, p. 449]. Кроме того, смерть Левкиппа в результате промаха отца говорила людям античности о воле богов и под‐ черкивала сакральность внешней черты, с которой начиналось возведение, видимо, любого города и которая составляла его основание, а также устанав‐ ливаемых в нем законов.
Эллинистическая параллель со смертью Рема (пусть и со смещением акцента с пары отец – сын на братьев) не просто угадывается, она представляется очевидной. Профессор Р.‐М. Огилви сделал одно‐ значный вывод, что неблагоприятные последствия, которые влечет «презрение» к стенам, безусловно, имели греческое происхождение [63, p. 54]. И дей‐ ствительно, кто бы ни перепрыгнул, результат одина‐ ковый – смерть. Как в римском, так и в греческом мифе действию (пересечение пусть и минимального, но городского укрепления) придается неодобритель‐ ное, или пейоративное, содержание, потому и насту‐ пают негативные последствия (которые иначе были бы предотвращены богами).
Можно даже с помощью инверсии сформулиро‐ вать соответствующий запрет – «нельзя прыгать через ров (стену), а иначе наступит смерть», который в опре‐ деленной степени напоминает древнее табу, где ров (стена) отделяются от мирского (профанного), приоб‐ ретая магические свойства, черты святости, но в то же время без особого упоминания о божестве.
В контексте греческого эпоса опасность преодо‐ ления рва (стены) никак реально не подкрепляется. Помимо мифического нарушения магии стен и неожиданного наступления смерти одного из героев, непонятно, почему нужно воздерживаться от такого поступка. Эта неясность красноречиво проиллюстри‐ рована в рассказе у Плутарха, где случайно (для лю‐ дей, но не богов) погибает сын «пострадавшего» Пе‐ мандра, а не непосредственно насмешник – зодчий Поликриф. Здесь причинно‐следственная связь, в итоге протекая не так, как желает герой, сводится не к рациональному развитию, а исключительно к сверхъестественной воле, что характерно для всей греческой мифологии. В отличие от нее, в древне‐ римской легенде опасность наглядно продемонстри‐ рована (запрет и возможные негативные послед‐ ствия провозглашены во всеуслышание), поэтому и смерть Рема не ставится в зависимость от желания богов, а носит абсолютно закономерный характер, по сути, выступая заслуженным наказанием – карой.
У всех древних народов окружающее простран‐ ство воспринималось как мир, разделенный на «свой» и «чужой», безопасный и опасный, а потому и территория занимала важнейшее место в поли‐ тико‐правовом регулировании отношений [23, с. 43– 44]. В древности стены дома, города образовывали магический круг, поэтому смерть Рема и смерть ге‐ роев греческих мифов взаимосвязаны между собой, одинаково являясь фатальным последствием разру‐ шения волшебных свойств стен [79, p. 162]. Не слу‐ чайно в Греции олимпийским победителям разреша‐ лось въехать в родной город через пролом в стене, специально сделанный для такого случая. Но и у рим‐ лян ежегодно повторялся обряд основания города – «для обновления священной границы, так сказать, “магического круга” вокруг города» [10, с. 45]. Речь шла о померии, окружавшем и магически охраняв‐ шем город.
Значение рва и стен поселений для выживания и существования людей древних цивилизаций сложно переоценить. Археология подтверждает, что древней‐ шие укрепления были земляными [16, с. 83]. Типичное доисторическое (протоисторическое) сообщество Италии – община эпохи неолита – состояла «из соб‐ ственно деревни, неправильной овальной ограды…, окруженной двумя, а местами и тремя рвами» [81, p. 127]. В греческих мифах, а также в отдельных вари‐ антах древнеримской легенды упоминается именно ров, а не городские стены. Видимо, это более ранний вариант мифологического сюжета.
Все данные свидетельствуют о том, что ров с со‐ путствующим ему валом – как оборонительное укрепление поселений – предшествовал стенам, характерным для более поздней эпохи протогород‐ ских и городских образований. Считается, что древ‐ нейшим оборонительным сооружением Рима был земляной вал (agger) высотой шесть метров и ров [16, с. 99], а крепостная стена, строительство которой античными источниками приписывалось Сервию Туллию, вероятно, была возведена только после гал‐ льского нашествия в 390 г. до н. э. Тем не менее следы дополнительных (помимо рва) сооружений в более раннюю эпоху (VI в. до н. э.) многочисленны. Как утверждает К. Смит (C. Smith), «было бы крайне необычно, если бы в Риме на данный момент не было бы никакой стены, поскольку все другие латинские го‐ рода, похоже, расширили свои укрепления» [74, p. 27]. По другим источникам, ко второй половине VIII в. до н. э. относился самый ранний период строи‐ тельства стены [26, с. 138]. Независимо от того, какой вид застройки (радиальный, осевой и ортогональный или другой) был выбран, каково происхождение пла‐ нировки (восточное, греческое или этрусское), внуши‐ тельные контуры городских стен всегда выступали неизменным атрибутом и определяли хронологию античного города [39, Pp. 96–97, 123–126].
Однако греческие мифы не наполнены таким благоговением и почтением по отношению к стенам (рву), какое встречается в римской легенде, не го‐ воря о том, что и магическое у них скрыто от непо‐ священного. Контраст еще более усилится, если привести рассуждения Платона об идеальном госу‐ дарстве, для пользы которого городские стены и во‐ все не нужны, поскольку, по мнению античного фи‐ лософа, они только расслабляют жителей35. Тем не менее в суждениях философа оцениваются исклю‐ чительно городские стены, а не оборонительные укрепления в целом36.
В древнеримском нарративе отчетливо звучат другие интонации. Гомеровский эпос «Илиада» уве‐ ковечил Трою с ее неприступными городскими сте‐ нами, которые не могли преодолеть греки. И хотя в итоге ахейцы победили, именно с побежденными – троянцами, потомками Энея, отождествляли себя римляне (впрочем, такое отождествление может быть объяснено по‐разному [47, Pp. 891–915]). Благо‐ даря Троянской легенде и судьбе Энея не только за‐ крепилась добродетель гражданина – pietas – благо‐ честивая привязанность к родителям и богам, особо почитавшаяся на протяжении всей римской истории [32, Pp. 30–31], но и неприступность Трои, возможно, вдохновила римлян: ведь Ромул убил брата именно из‐за насмешки над будущими стенами Рима37. И ла‐ тинский термин urbs обозначал не просто город, а «го‐ род, окруженный стенами» [31, p. 751]. Для римлян городские стены считались священными – res sanctae [31, p. 590], что развернуто объясняет Плутарх, одно‐ временно исключая неприкосновенность ворот38. Как сказано в Дигестах: «Значение выражения “в городе” (urbis) ограничивается стенами, а выражения “в Риме” – заключенными в нем зданиями, что простирается за пределы городских стен» (Dig. 50, XVI, 2).
Вместе с тем в античных источниках сложились различные вариации упоминания городских стен, sulcus primigenius (первоначальной борозды), pome‐ rium (померия), в том числе и в контексте совершен‐ ного Ремом проступка. Важно обратить внимание, что необходимый для основания города ритуал39, вклю‐ чая обязательное вспахивание плугом борозды, опре‐ делявшей освященное пространство [52, p. 74], совер‐ шаются Ромулом после смерти Рема.
Повествуя об этом, Дионисий Галикарнасский указал, что не осталось никаких препятствий для ос‐ нования города. Далее древнегреческий историк по‐ дробно описал ритуал основания: предварительные жертвоприношения Ромулом и его спутниками, при‐ нятие покровительства – вещих птиц, обряд очище‐ ния – прыжки через костер, и только после всего этого идет непосредственно церемония определе‐ ния границ города40. И у Плутарха Ромул после того, как похоронил брата, приступает к выполнению ри‐ туала основания города ( Plut. Rom. 11).
Итак, городские стены в Риме издревле при‐ знавались священными, и это никогда не подверга‐ лось сомнению со стороны римлян, что находит дополнительное подтверждение в Дигестах: «§ 2. Кас‐ сий сообщает, что Сабин правильно ответил в том смысле, что в муниципиях стены являются святыми и что следует воспретить, чтобы на них что‐либо поме‐ щалось» (Dig. I, VIII, 8).
Соответственно, запрет пересекать стены (ров) города обеспечивал выживание жителей древних поселений и потому был важным, ценным и жиз‐ ненно необходимым. Поэтому и «прыжок» Рема че‐ рез ров (стены) следует рассматривать именно че‐ рез призму нарушения этого правила, которое дей‐ ствовало независимо от высоты, ширины или иных характеристик укрепления. Расхождения же древ‐ них источников о том, был это ров или стена, свиде‐ тельствуют об эволюции мифа. Если исходить из того, что правовая норма отражает типичные соци‐ альные явления или элементы социальной действи‐ тельности, обладающие достаточной степенью рас‐ пространенности, то в пространстве римлян анализи‐ руемый запрет неизбежно приобретает юридиче‐ скую специфику.
Легендарный запрет Ромула соответствовал жизненным интересам и устремлениям римлян, ко‐ торые, отразившись в данном императиве, наделили его нормативно‐ценностным свойством, присущим праву. Ясность запрета придала ему еще большей убедительности, сделала его понятным каждому и адресованным каждому.
Так, оценивая описание Титом Ливием образа Ромула, Р. Стем обращает внимание, что древнерим‐ ский историк в анализируемой версии убийства Рема использует «драматическое высказывание» первого царя («Так да погибнет всякий, кто перескочит через мои стены»), которое, находясь в центре этого сю‐ жета, доводит весь эпизод до кульминации [75, Pp. 445–446]. К. Краус (Christina S. Kraus) акцентирует внимание на серьезном подходе Ливия к написанию выражений и речей своих героев, в которые антич‐ ный историк всегда вкладывал определенный смысл [51, Pp. 12–13]. Тем самым «драматическое высказы‐ вание» в устах Ромула у Ливия звучит как провозгла‐ шение, доведенное до всеобщего сведения, оно ста‐ новится обнародованием первого правового уста‐ новления – запрета пересекать городские стены (ров), и главное, что сказано оно было во всеуслыша‐ ние, а у отдельных авторов (в частности, Квинта Эн‐ ния, Диодора Сицилийского и др.) даже – до причи‐ нения смерти Рему. Соответственно, в нарративной форме зафиксирован не просто момент начала го‐ родской жизни, а момент возникновения первого публично‐правового правила, а также санкция за его нарушение.
Римские рассказы преследовали цель ориенти‐ ровать читателя в жизни на примерах из прошлого – exempla прошедших дней [69, Pp. 310–311], сохра‐ нить великие деяния людей как источник вдохнове‐ ния [59, p. 128], а Тит Ливий прямо указывал на их по‐ учительность: «…для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же – чего избегать» (Liv. I, Pref. 10). Не случайно, в его историях обнаруживают «осново‐ полагающие принципы римской антропологии» [71, p. 152]. В древнеримском контексте exempla имело значение не только примерного образца или модели поведения, но и «средства правовой защиты, анало‐ гичного существующему» [31, p. 476], т. е., по сути, речь шла о правовом прецеденте.
Поэтому закономерно признание поступка Ро‐ мула примером для подражания, прецедентом, ко‐ гда «в лице Рема предается смерти каждый неприя‐ тель, кто посмеет забраться за крепостную стену» [28, с. 42]. Лаконично Х. Маринес‐Пинна (J. Martinez‐ Pinna) определяет смерть Рема как заслуженное наказание того, кто нарушил религиозные и право‐ вые границы Рима, и одновременно как пример об‐ разцового возмездия и негибкости закона [53, p. 116].
Наказуемость нарушения недоступности город‐ ских стен становится ориентиром на будущее, направленным на повторяемость, многократное применение в случае несоблюдения. Ромул убеди‐ тельно и наглядно продемонстрировал и подкрепил его обязательность соответствующим принужде‐ нием – наказанием, в чем проявляется существенное отличие этой легенды от схожих сюжетов греческой мифологии, в которых трагическая смерть героев наступает случайно, подчиняется воле богов. Здесь это закономерный результат, возмездие, независи‐ мое от личных взаимоотношений, предполагающее общий стандарт поведения и обязательность наказа‐ ния в других подобных случаях (как правило, заранее определенных) [61, Pp. 366–368]. Установленная за нарушение запрета кара – смерть – свидетельствует о совершении тягчайшего проступка, которое по сво‐ ему характеру и степени общественной опасности исключает всякое прощение, и даже самое близкое родство между преступником и палачом (родные братья) служит тому наглядным подтверждением.
Последний тезис отмечен неоднократно: Ромул не делает исключения даже для собственного брата, «чтобы отпугнуть других, кто мог бы бросить вызов безопасности стен Рима и суверенитету его правите‐ лей» [30, p. 161; 82, p. 140]. А. Кастьелло даже видит в причинении смерти близнецу идею замены тради‐ ционного права, основанного на кровном родстве, позитивным правом, установленным основателем [40, p. 41].
Для античных авторов и их современников не был важен вопрос, где были расположены ров, стены или померий, но постоянно происходило пере‐ осмысление того, какую роль они играли в повество‐ вании, какую ценность имели для создателей этой мифологии и что символизировали для римского народа [40, p. 34]. Особенность народного предания предполагает постоянный отбор значимых обстоя‐ тельств: «факты, которые вписываются в нарратив, запоминаются прочно, а все, что вроде бы выпадает из причинно‐следственной цепочки, вскоре забыва‐ ется» [20, с. 66].
Анализируемое повествование отражает древ‐ ний механизм формирования права – это фактическое нормотворчество, при котором источником права в формальном смысле слова выступал обычай. Именно «автономные действия, самоопределение в форме самоуправства» [22, с. 11; 6, с. 94–95], обнару‐ жив свою «длительную действенность» [9, с. 66], признаются и становятся правом. Поэтому необосно‐ ванно Р. Вердье рисует установленный Ромулом пра‐ вопорядок в негативных оттенках: «…дикий закон во‐ ждя братоубийственной банды», «…варварский за‐ кон военачальника и тирана‐монарха» [78, p. 15]. Критерии варварства и дикости закона в данном слу‐ чае соответствуют современным представлениям, для архаического права такой механизм правотвор‐ чества был естественен и необходим. Легитимность и валидность древнейших правовых норм следовала за их эффективностью и действительностью. В нарра‐ тиве само многократное воспроизведение описыва‐ емых поступков легитимирует запрет.
Часто для подкрепления юридической силы древнейших норм им приписывалось божественное происхождение. Это, в свою очередь, создавало со‐ вершенно иной уровень их легитимации. Не слу‐ чайно, в Греции «Минос, Ликург и Драконт были по‐ лумифическими фигурами, чьи юридические заслуги были подкреплены самими богами», а в Риме «Ро‐ мул стал Квирином, который делил место с Юпите‐ ром и Марсом в качестве центральных божеств го‐ рода» [64, p. 67]. Но, как справедливо отмечено, «в Риме с древнейших времен право, хотя и представ‐ ляет различные связи с божественным, по‐види‐ мому, не исходит непосредственно от божества: оче‐ видно, необходимость в такой легитимации норм и правил не ощущалась» [54, Pp. 3–4]. Действительно, легитимность анализируемому запрету в большей степени придавал непосредственно статус будущего царя – основателя ( conditor urbis ), правление кото‐ рого в римской истории представляло собой «абсо‐ лютное начало» [66, p. 299]. И то, что Ромул получил покровительство богов и после смерти сам был обо‐ жествлен под именем бога Квирина, скорее всего, носило вторичный, но в то же время естественный и необходимый для древнего мира характер.
Факт того, что в рассматриваемом эпизоде пре‐ валирует правовое над религиозным, демонстри‐ рует отмеченное многими исследователями рим‐ ского права достаточно раннее и четкое разделение римской религии и римского права (ius divinum и ius humanum), сакрального и светского, fas и jus. Не слу‐ чайно Иеринг видел в легенде римлян «переверну‐ тый» исторический порядок – «религия появляется лишь после права», тогда как у других народов «право первоначально имеет религиозный характер и только впоследствии принимает светский» [6, с. 85]. Как за‐ метил Р. Стем (R. Stem), первыми действиями Ромула после основания города были строительство укреп‐ лений и совершение священных обрядов, что, по всей вероятности, указывало на понимание Ромулом ценности тесной связи между человеческой и боже‐ ственной защитой города [75, p. 448–449]. Здесь общение с богами является частью ритуального мен‐ талитета, но римский миф не исключительно религи‐ озный, он всегда также гражданский, указывает при‐ мер для общества, отмечает модальности поведения [54, p. 8]. И, действительно, запрет Ромула, как и его исполнение, носит будничный и повседневный ха‐ рактер, нет даже намека на какие‐либо священно‐ действия, которые обычно сопровождают религиоз‐ ные ритуалы и обряды. И отсутствие в контексте ле‐ генды религиозной составляющей не умаляет значе‐ ние императива как правового.
Соответственно, нельзя назвать действия Ро‐ мула властным произволом даже в современном по‐ нимании права, предполагающем, что юридическая норма создается путем издания нормативно‐право‐ вого акта в рамках определенной процедуры. Более того, римскому правотворчеству не было чуждо объ‐ явление новых составов преступлений в публичной речи императора [15, с. 86], а потому аналогичное провозглашение запрета Ромулом не противоречило античному правопониманию.
Надежная охрана и безопасность поселений не только служили выживанию, но и обеспечивали бла‐ гополучие римлян и позволяли им расширять свою территорию. Дж. Армстронг (J. Armstrong) красноре‐ чиво определил одним словом историю раннего Рима – это «экспансия», которая «была заложена в ДНК Рима с самого начала» [29, p. 133]. Историки не сомневаются, что в эпоху царей Рим регулярно всту‐ пал в вооруженные конфликты с соседними горо‐ дами, а «древнейшие военные действия, судя по всему, действительно велись в радиусе нескольких километров от города» [16, с. 299–300]. Не без осно‐ ваний Иеринг сравнил древнейший Рим с военным лагерем, а древнеримское устройство государства определил как единство военного порядка с семей‐ ным [6, с. 211–212]. Сам римский город Дж. Уорд‐ Перкинс (J. Ward‐Perkins) рассматривает как «пере‐ вод военного лагеря на гражданский язык» [81, p. 146], хотя Кастаньоли (Castagnoli) считает, что ди‐ зайн лагеря отражал план городов, а не наоборот [39, p. 120]. Во всяком случае запрет пересечения стены находил свое подкрепление в воинственном харак‐ тере римлян.
Не случайно даже без ссылки на священность границ в военном уголовном праве фиксируется: «17. Карается смертью также и тот, кто перейдет (окружающий лагерь) вал или войдет в лагерь через стену. 18. Но тот, кто перепрыгнет через ров, изгоня‐ ется из армии» (Dig. 49, XVI, 3). Такая минимальная дифференциация отражает восприятие разной сте‐ пени опасности проступков.
В свою очередь, Дж. Де Санктис, замечая проти‐ воречие между священной неприкосновенностью стен и их фактическим отсутствием, признает в прыж‐ ке Рема через первоначальную борозду («зачаточ‐ ные» стены) преступление против безопасности города, юридически оформленное Ромулом [71, p. 144]. И в этом смысле для того, чтобы закон, родившийся вместе с городской чертой41, вступил в силу, необходима реальная санкция, исполнение ко‐ торой и продемонстрировал миф.
Таким образом, запрет Ромула обладал всеми чертами правовой нормы, а прыжок Рема выступал соответственно его нарушением, проступком, зако‐ номерно требовавшим применения санкции.
Если проследить эволюцию нарратива, его опорные пункты, в том числе проанализировать гре‐ ческую аналогию в сюжете «прыжка» Рема, а также соперничество двух братьев, уходящее корнями в индоевропейскую мифологию, то вырисовывается определенная картина правогенеза.
Прототипом анализируемой правовой нормы выступало табу, которое существовало в виде опи‐ санного в греческом мифе запрета пересекать маги‐ ческий круг дома, города. В рамках римского миро‐ воззрения табу трансформируется и приобретает но‐ вую форму – сакрально‐правового запрета пересе‐ кать священные городские стены. Сакральное и юри‐ дическое соединились в самом факте пересечения границы. Объявление священными стен, неотдели‐ мых в представлении римлян от города и порядка в нем, олицетворяет не просто защиту от грабитель‐ ских набегов соседей, а саму возможность государ‐ ственного быта и безопасность человеческого обще‐ жития [13, с. 63, 142], и потому становится правовым императивом.
В отличие от табу, которое связано с магическим и иногда с трудом поддается разумному объясне‐ нию, юридико‐религиозное предписание – это сле‐ дующая ступень развития представлений о социуме, включает в себя и сакральное, и рациональное, по‐ следнее – в виде правовых установлений. Такого рода агрегация проиллюстрирована в Дигестах: «Яв‐ ляется святым то, что защищено от противоправных действий людей» ( Dig. I, VIII, 8). Показательно, что Ж. Дюмезиль противопоставлял Ромула, олицетво‐ ряющего магическое право «связующего» ( nexum ) или «творческое насилие мага», праву доверитель‐ ному, «организующей мудрости юриста» в лице сле‐ дующего римского царя – Нумы Помпилия [цит. по: 78, p. 15]. По сути, французский мифолог обозначил вектор развития права. И присутствующий во многих культурах прообраз, или архетип, вражды между братьями, вероятно, несущий в себе специфические черты древнейшей социальной организации, актуа‐ лизируется в соответствии с новыми потребностями, становится инструментом для подтверждения верхо‐ венства права.
В любом случае в легенде о Ромуле проявился регулятивный и правовой заряд запрета, его публич‐ ность, всеобщность и обязательность. Распространяясь на каждого члена будущего города без исключений, он обеспечивал общий и одинаковый для всех пра‐ вопорядок. Этот миф в течение всего периода своего существования иллюстрировал римское понимание верховенства права, причем так красноречиво и кон‐ трастно, как позволяла общедоступная форма по‐ вествования. Каждый слушатель (читатель) воспри‐ нимал описываемые события и заново переживал их, тем самым происходила легитимация запрета и ответственности за его нарушение. В конечном счете от фиксации конкретной уголовно‐правовой нормы (запрета перелезать через стены города) миф стал олицетворением нерушимости римских законов (ко‐ торые нельзя преступать), а потому стал не просто юридическим нарративом, а метанарративом, фик‐ сирующим идентичность и задающим общий тон римского правопонимания.
Заключение
Проанализированная легенда отражала про‐ цесс установления первых норм римского права, а также соответствовала правопониманию римлян, а потому имела несомненное регулятивное содержа‐ ние, которое лишь было подтверждено включе‐ нием в Дигесты. В эпизоде убийства в сжатом и наглядном виде представлено как публичное про‐ возглашение уголовно‐правового установления, так и немедленная реализация санкции за его наруше‐ ние, исполненной, несмотря на кровные узы и ми‐ нимальную степень усилий Рема, преступившего этот запрет.
Нарративное повествование фиксирует обяза‐ тельную наказуемость подобных нарушителей и ста‐ новится ориентиром на будущее, направленным на повторяемость, многократное применение в случае несоблюдения. Тем самым эта легенда не просто описывала действующие правила, но и выступала их источником и легитимировала их.
Такая форма установления права не противоре‐ чила римскому правопониманию и не может расце‐ ниваться как властный произвол первого царя. Дей‐ ствительными в этом мифе нужно считать не описан‐ ный в нем сюжет (как минимум частично заимство‐ ванный у греков), а сам запрет и идеи публичности и общеобязательности права. Как и любое повествова‐ ние, легенда о Ромуле и Реме жила в диалоге с ауди‐ торией, эволюционируя от фиксации конкретной уго‐ ловно‐правовой нормы (запрета перелезать через стены города) до олицетворения нерушимости рим‐ ских законов (которые нельзя преступать), а потому она стала не просто юридическим нарративом, а ме‐ танарративом, отражающим и одновременно созда‐ ющим те черты римского правопонимания, которые и закрепили значение римского права как общеми‐ рового наследия.
Список литературы Правовой нарратив в легенде о Ромуле
- Веденеев Ю. А. Антропология права: между социокультурными традициями и нововведениями // Lex Russica (Русский закон). 2016. № 9 (118). С. 9–23. DOI: 10.17803/1729‐5920.2016.118.9.009‐026.
- Веденеев Ю. А. Юриспруденция: между догматическим наследием и языком новой аналитики // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 4 (149). С. 31–55. DOI: 10.17803/1729‐5920.2019.149.4.031‐055.
- Грималь П. Цивилизация Древнего Рима / пер. с фр. И. Эльфонд. Екатеринбург: У‐Фактория; М.: АСТ, 2008. 512 с.
- Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2001. 640 с.
- Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / пер. с фр. Т. В. Цивьян. М.: Гл. ред. вост. лит. изд‐ва «Наука», 1986. 234 с.
- Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч. 1. СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1876. 309 с.
- Исаев И. А. Теневая сторона закона. Иррациональное в праве: монография. М.: Проспект, 2015. 368 с.
- Карбонье Ж. Юридическая социология / пер. с фр. и вступ. ст. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1980. 352 с.
- Кельзен Г. Чистое учение о праве / пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лезова. СПб.: Алеф‐Пресс, 2015. 542 с.
- Коптев А. В. Империй и померий в эпоху Ранней Римской республики // Вестник РГГУ. Серия: Исторические науки. 2011. № 14 (76). С. 42–103.
- Коптев А. В. От praepositus celerum к magister equitum: Целер, Брут и проблема наследования царской власти в архаическом Риме // Античность и средневековье Европы: межвуз. сб. науч. ст. Вып. 4. Пермь, 1998. С. 53–62.
- Коптев А. В. Царская власть, календарь и обряды Луперкалий в раннем Риме // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2013. № 13. С. 161–192.
- Кулаковский Ю. А. К вопросу о начале Рима. Киев: Тип. Император. ун‐та св. Владимира, 1888. 155 с.
- Леви‐Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. В. В. Иванова. М.: ЭКСМО‐Пресс, 2001. 512 с.
- Марей А. В. Язык права средневековой Испании: от Законов XII Таблиц до Семи Партид. М.: Изд‐во ЛКИ, 2008. 232 с.
- Момильяно А. Древнейшая история Рима // Кембриджская история древнего мира. Т. VII. Кн. 2. Возвышение Рима: от основания до 220 года до н. э.: пер. с англ. / под ред. Ф. У. Уолбэнка и др. М.: Ладомир, 2015. С. 71–138.
- Нетушил И. В. Легенда о близнецах Ромуле и Реме. М.: URSS, 2019. 126 с.
- Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи / пер. с англ. И. И. Мюрберг [и др.]; под общ. ред. Л. Б. Макеевой [и др.]. М.: Идея‐Пресс, 2002. 285 с.
- Постклассическая онтология права: монография / под ред. И. Л. Честнова. СПб.: Алетейя, 2016. 688 с.
- Право и нарративы: монография / под общ. ред. В. В. Денисенко, А. К. Соболевой, И. Л. Честнова. М.: Проспект, 2022. 128 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / науч. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
- Сергеевич В. И. Лекции по истории русского права. СПб.: Тип. С. Волпянского, 1890. 709 с.
- Сигалов К. Е. Пространственные и темпоральные основания освоения правовой цивилизации: покорение или абсорбция // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22, № 1. С. 42–65. DOI: 10.22363/2313‐2337‐2018‐22‐1‐42‐65.
- Сигалов К. Е., Беляева Н. А. Историческая методология и проблемы нарратива // История государства и права. 2022. № 11. С. 10–16. DOI: 10.18572/1812‐3805‐2022‐11‐10‐16.
- Хюбнер К. Истина мифа: пер. с нем. М.: Республика, 1996. 448 с.
- Циркин Ю. Б. История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии. СПб.: Изд‐во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. 516 с.
- Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима. М.: Астрель: АСТ, 2000. 560 с.
- Энман А. Ф. Легенда о римских царях, ее происхождение и развитие. СПб.: Тип. Балашева и Ко, 1896. 380 с.
- Armstrong J. Beyond the Pomerium: Expansion and Legislative Authority in Archaic Rome // Roman Law before the Twelve Tables: An Interdisciplinary Approach / ed. by S. W. Bell, P. J. du Plessis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. Pp. 133–152.
- Bannon C. J. The Brothers of Romulus: Fraternal pietas in the Roman Law, Literature, and Society. Princeton: Princeton University Press, 1997. 248 p.
- Berger A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law // Transactions of the American Philosophical Society. 1953. Vol. 43. No. 2. Pp. 333–809.
- Bloch R. Tite‐Live et les premiers siècles de Rome. Paris: Les Belles Lettres, 1965. 122 p.
- Bremmer J. N., Horsfall N. M. Roman Myth and Mythography // Bulletin Supplement (University of London. Institute of Classical Studies). 1987. No. 52. Pp. III–120.
- Briquel D. A propos de Tite‐Live I: l’apport du comparatisme indo‐européen et ses limites // REL (Revue d'Études Latines). 1998. Vol. 76. Pp. 41–70.
- Briquel D. La légende de Romulus: une approche comparative // Actualités des études anciennes. ISSN format électronique. 2022. URL: https://reainfo.hypotheses.org/25741.
- Briquel D. Romulus. Jumeau et roi. Réalités d’une légende. Paris: Les Belles Lettres, 2018. 480 p.
- Cairo G. Romolo figlio del fuoco. Bologna: Pàtron Editore, 2010. 93 p.
- Carandini A. La leggenda di Roma. Vol. I. Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2006. 493 p.
- Castagnoli F. Orthogonal Town Planning in Antiquity. Cambridge: MIT Press, 1971. 144 p.
- Castiello A. Il pomerium e l'identità romana: un legame più forte del sangue // In limine. Esplorazioni attorno all’idea di confine / A cura di F. Calzolaio, E. Petrocchi, M. Valisano, A. Zubani. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari ‐ Digital Publishing, 2017. Pp. 23–46.
- Cornell T. J. Review of Clio’s Cosmetics: Three Studies in Greco‐Roman Literature, by T. P. Wiseman, Clio // The Journal of Roman Studies. 1982. Vol. 72. Pp. 203–206.
- Dardenay A. Les mythes fondateurs de Rome: Images et politique dans l’Occident romain. Paris: Picard, 2010. 237 p.
- Dehouve D. Sacer et sacré. Notion emic et catégorie anthropologique // Autour de la notion de sacer / T. Lanfranchi (ed.). Rome: Publications de l’École française de Rome, 2018. Pp. 17–37.
- Edwards C. Death in Ancient Rome. New Haven, London: Yale University Press, 2007. 287 p.
- Forsythe G. A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War. Berkeley: University of California Press, 2005. 416 p.
- Fraschetti A. Romolo il fondatore. Roma‐Bari: Laterza, 2002. 194 p.
- Grandazzi A. Alba Longa, histoire d’une légende: Recherches sur l’archéologie, la religion, les traditions de l’ancien Latium. Rome: Publications de l’École française de Rome, 2008. 988 p.
- Guarino A. L'esegesi delle fonti del diritto romano. Napoli: Casa editrice Jovene, 1968. 629 p.
- Jal P. Là guerre civile à Rome: Étude littéraire et morale de Cicéron à Tacite. Paris: Presses univ. de France, 1963. 540 p.
- Kreiswirth M. Trusting the Tale: The Narrativist Turn in the Human Sciences // New Literary History. 1992. Vol. 23. No. 3. Pp. 629–657.
- Livy. Ab Urbe Condita. Book VI / Ed. By C. S. Kraus. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 356 p.
- Magli G. Non‐Orthogonal Features in the Planning of Four Ancient Towns of Central Italy // Nexus Network Journal. 2007. Vol. 9 (1). Pр. 71–92.
- Martinez‐Pinna J. Les traditions mythiques sur les origines de Rome // Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE). Section des sciences historiques et philologiques. 2014. Pp. 111–117.
- Masi Doria C. Storia instituzionale e fonti del diritto // Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica / Giunti P., Lamberti F., Lambrini P., Maganzani L., Masi Doria C., Piro I. Torino: Giappichelli Editore, 2021. Pp. 1–78.
- Mastrocinque A. Romulus. Întemeierea Romei între istorie şi legend. Cluj‐Napoca: Ecco, 2005. 187 p.
- Mauss M., Hubert H. Essai sur la nature et la fonction du sacrifice // L’Année Sociologique. 1897. Vol. 2. Pp. 29–138.
- Meurant A. Romulus, jumeau et roi. Aux fondements du modèle héroïque // Revue belge de philology et d'histoire. 2000. Tome 78. Fasc. 1. Pp. 61–88.
- Meurant A. Thème gémellaire et mythe de fondation, à Rome et ailleurs // Mythe et création : Théories, figures / Faivre d'Arcier É., Madou J., Van Eynde L. (Eds.). Bruxelles: Presses de l’Université Saint‐Louis, 2005. Pp. 127–138.
- Muntz C. E. Diodorus Siculus and the World of the Late Roman Republic. New York: Oxford University Press, 2017. 284 p.
- Mythe et fiction / D. Auger, C. Delattre (Eds.). Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2010. 461 p.
- Nozick R. Philosophical Explanations. Cambridge: Harvard University Press, 1981. 764 p.
- Oakeshott M. On history and other essays. New Jersey: Barnes & Noble, 1983. 198 p.
- Ogilvie R. M. A Commentary on Livy: Books 1–5. Oxford: Clarendon Press, 1965. 774 p.
- Perelló C. A. The Twelve Tables and the leges regiae: A Problem of Validity // Roman Law Before the Twelve Tables: An Interdisciplinary Approach / ed. By S. W. Bell, P. J. du Plessis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. Pp. 57–76.
- Poucet J. Les origines de Rome. Tradition et Histoire. Bruxelles: Facultés universitaires Saint‐Louis, 1985. 360 p.
- Poucet J. Les préoccupations étiologiques dans la tradition «historique» sur les origines et les rois de Rome // Latomus. 1992. Vol. 51. Pp. 281–314.
- Raaflaub K. Between Myth and History: Rome's Rise from Village to Empire (The Eighth Century to 264) // A companion to the Roman Republic / ed. By Rosenstein N., Kallet‐Marx R. M. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Pp. 125–146.
- Ranke L. The Theory and Practice of History / Ed. and Introduction by G. G. Iggers. London: Routledge, 2010. 200 p.
- Rathmann M. Diodor und seine «Bibliotheke»: Weltgeschichte aus der Provinz, Berlin: De Gruyter, 2016. 431 S.
- Rodriguez‐Mayorgas A. Romulus, aeneas and the cultural memory of the Roman Republic // Athenaeum. 2010. Vol. 1. Pp. 89–109.
- Sanctis De G. La logica del confine. Per un’antropologia dello spazio nel mondo romano. Roma: Carocci Editore, 2015. 212 p.
- Scheid J. Romulus et ses frères. Le collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs. Rome: Ecole Française de Rome, 1990. 806 p.
- Schwegler A. Römische Geschichte. Tübingen: H. Laupp'schen Buchhandlung, 1853. 808 S.
- Smith C. J. Early and Archaic Rome // Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City / ed. by Coulston J., Dodge H. Oxford: Oxford University School of Archaeology; Oxford University Press, 2000. Pp. 16–41.
- Stem R. The Exemplary Lessons of Livy’s Romulus // Transactions of the American Philological Association. 2007. Vol. 137. No. 2. Pp. 435–471.
- Vé K. K. La cité et la sauvagerie: les rites des Lupercales // Dialogues d'histoire ancienne. 2018. Vol. 44. No. 2. Pp. 139–190
- Vé K. K. Romulus. Jumeau et roi // Actualités des études anciennes, ISSN format électronique: 2492.864X. 2019. URL: https://reainfo.hypotheses.org/16311.
- Verdier R. Le mythe de genèse du droit dans la Rome légendaire // Revue de l'histoire des religions. 1975. Vol. 187. No. 1. Pp. 3–25.
- Versnel H. S. Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph. Leiden: Brill, 1970. 409 p.
- Walt S. Der Historiker C. Licinius Macer: Einleitung, Fragmente, Kommentar, Berlin, Boston: B. G. Teubner, 2011. 378 s.
- Ward‐Perkins J. B. Early Roman Towns in Italy // The Town Planning Review. 1955. Vol. 26 (3). Pp. 126–154.
- Wiseman T. P. Remus: a Roman myth. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 243 p.
- Wiseman T. P. Roman Studies: Literary and Historical. Liverpool: Francis Cairns, 1987. 418 p.
- Wiseman T. P. Unwritten Rome. Exeter: University of Exeter Press, 2008. 366 p.