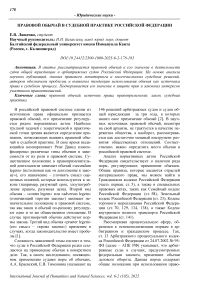Правовой обычай в судебной практике Российской Федерации
Автор: Лащенко Е.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6-2 (105), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается правовой обычай и его значение в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. На основе анализа научных публикаций, данных правового мониторинга и многочисленных судебных решений, автором обозначены проблемы и выявлены тенденции использования обычая как источника права в судебном процессе. Подчеркивается его значение в защите прав и законных интересов участников правоотношений.
Правовой обычай, источник права, правоприменение, закон, судебная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/170210643
IDR: 170210643 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-2-178-183
Текст научной статьи Правовой обычай в судебной практике Российской Федерации
В российской правовой системе одним из источников права официально признается правовой обычай, его применение регулируется рядом нормативных актов. Наиболее трудной задачей с теоретической и практической точки зрения является определение признаков, позволяющих выявить правовой обычай в судебной практике. В свое время выдающийся компаративист Рене Давид классифицировал различные типы обычаев в зависимости от их роли в правовой системе. Существенное положение в правоприменительной деятельности занимает обычай «secundum legem» (истолкован как «в дополнение к закону»), его назначение – уточнять смысл оценочных понятий, которые используются в законе (например, разумный срок, злоупотребление правом, разумная цена). Второй вид обычая – «contra legem» или «adversus legem» (означающий «против закона») занимает незначительное положение в правовой системе, так как закон и обычай по-разному регулируют одно и то же общественное отношение. В случае противоречий обычно действуют нормы закона. Третий вид обычая «praeter legem» (его смысл – «кроме закона») применим в случаях, когда законодательство имеет пробелы [1].
Сложность заявленной темы состоит в том, что суды в Российской Федерации редко ссылаются на применение обычая в конкретном деле. Так, в своем исследовании, посвященном применению судами норм об обычаях, А.А. Краевский, Е.В. Тимошина указывают на
146 решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции за три года, в которых нашел свое применение обычай [2]. В научных источниках правовой обычай, несмотря на свой архаизм, не трактуется в качестве пережитка общества, а наоборот, рассматривается как достаточно мощный инструмент развития общественных отношений. Соответственно, важно определить место обычая в российской правовой системе.
Анализ нормативных актов Российской Федерации свидетельствует о наличии ряда норм, регулирующих применение обычаев. Общие правила, которые касаются отраслей материального права, мы можем найти в Гражданском кодексе Российской Федерации (часть первая, ст. 5), а также в специальных правовых актах, таких как Семейный кодекс Российской Федерации (ст. 58), Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 23), Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (ст. 70, 129, 134, 138), а также Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (ст. 141).
Рассматривая процессуальную сферу, обратимся к основополагающим нормам в арбитражном и гражданском процессе. Так, ст. 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее – АПК РФ) указывает, что арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, применяют обычаи делового оборота. Данная норма содержит общие положения при использовании право- вого обычая, она содержит в себе отсылку на иную норму, которая тоже санкционирует обычай. Часть 1 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ) гласит, что «суд разрешает гражданские дела, основываясь на обычаях делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами». Именно на данные нормы суды ссылаются при обосновании применения правового обычая в конкретном деле, потому что они является устоявшимися правилами, применительно к арбитражному судопроизводству и к гражданским правоотношениям. Вместе с тем, необходимо учитывать еще одно правило: противоречащие закону или договору обычаи - не подлежат применению.
При выделении правового обычая среди множества других социальных норм, необходим специальный механизм, который позволит определить и содержание обычной нормы, и проведет ее правовую квалификацию. Изначально судьи не могут знать обо всех существующих обычаях, этот факт необходимо каждый раз устанавливать. Обратившись к позиции Г.С. Серопяна, видим, что существует две стадии доказывания правового обычая в суде. На первой стадии необходимо установить смысл и способы применения исходного правила поведения. Безусловно, первостепенным здесь будет являться установление факта существования обычной нормы, поскольку заранее может быть неизвестно, является ли доказываемое правило обычаем или нет. На второй стадии осуществляется проверка, направленная на определение соответствия правила поведения признакам правовой нормы, чтобы удостовериться, не относится ли это к обыкновению или техническому стандарту. Если на данных стадиях правило поведения проходит все критерии, то мы действительно имеем дело с правовым обычаем [3].
Свою позицию относительно применения правового обычая судами изложил Пленум Верховного Суда в Постановлении от 23 июня 2015 года [4]. В документе говорится, что доказать существующий правовой обычай должна та сторона, которая на него ссылается. В качестве доказательств могут выступать свидетельские показания и ранее вынесенные судебные решения. Безусловно, суд должен участвовать в процессе сбора подтверждающих фактов. Данное правило глубокими историческими корнями уходит в римское и средневековое право. В случае, когда одной из сторон затруднительно самостоятельно найти доказательства, суд по ее ходатайству оказывает содействие в их сборе.
Обратимся непосредственно к судебной практике. В постановлении Элистинского суда Республики Калмыкия от 16 мая 2016 года рассматривалось заявление о признании решения антимонопольного органа, касающегося привлечения члена аукционной комиссии к административной ответственности, незаконным [5]. Со стороны антимонопольного органа было выявлено нарушение, которое касалось того, что в документации об электронном аукционе единица измерения веса товара была указана в «кг», что не соответствовало международной системе единиц. Суд поддержал доводы заявителя, отметив, что в повседневной жизни слово «вес» обычно подразумевает массу товара, поэтому в контексте сложившегося делового оборота измерение должно быть указано в «кг».
Согласно определению Верховного суда РФ от 28 февраля 2023 года гражданин решил открыть вклад, обратившись с данной целью в банк. Сотрудник банка выдал ордер и все необходимые документы, но счет не открыл, хотя деньги уже были переданы. Гражданину ответили, что договор заключен не был. Первая инстанция удовлетворила требования истца, так как финансовая организация (банк) должна контролировать своих работников, а апелляция и кассация не согласились, ссылаясь на то, что договор не предусматривал действительное внесение денежных средств, гражданин это не учел. Верховный суд пришел к выводу о том, что любой документ, подтверждающий договор с вкладчиком, является действительным, так как это установлено обычаями делового оборота и банковскими правилами. В любом случае, ответственность будет нести банк, потому что гражданин не может знать, какой конкретно документ устанавливает открытие вклада [6].
В обзоре судебных решений по делам о защите прав потребителей обнаруживаем еще один пример – в споре между продавцом и покупателем о правильности процедуры проверки качества товара, суд усмотрел, что в случае отсутствия установленного порядка проверки качества товара (п. 1 ст. 474 ГК РФ), он проверяется в соответствии с правовыми обычаями.
В постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2023 года суд ссылается на обычай делового оборота [7]. Сущность первоначального иска состоит во взыскании крупного долга охранным предприятием «Феникс» с общества с ограниченной ответственностью «ЕРСМ Сибири». Однако интересующая нас сторона вопроса состоит в том, что акты охранных услуг, по мнению истца, были подписаны неуполномоченным лицом со стороны заказчика. Ввиду того, что у подписывающего лица имелась доверенность, в документе стояла печать, о фальсификации подписи или утрате печати компания не заявляла, то согласно обычаям делового оборота, суд постановил, что все полномочия лица, подписывающего документ, были подтверждены.
В ряде судебных решений рассматривают использование определенных правил употребления тех или иных понятий, в контексте их соответствия семантическим правилам. Они имеют важное значение при толковании спорных понятий при определении обычая. Необходимо обозначить, что семантические правила относятся непосредственно к толкованию нормативных актов, договоров, но сами не представляют собой правила поведения.
Так, в своем решении Арбитражный суд Калининградской области от 1 февраля 2016 года проанализировал судебную практику по ст. 5 ГК РФ об обычаях, включая банковскую практику, а также рассмотрел значение термина «банковский день», и в конечном итоге определил, что под ним подразумевается рабочий день кредитной организации, а не календарный [8]. В некоторых постановлениях судов мы можем встретить тавтологичные семантические правила, например, в решении Индустриального районного суда города Перми от 23 августа 2017 года был установлен правовой обычай и было признано, что «в сроки, исчисляемые рабочими днями, не включаются нерабочие дни» [9]. Анализ небольшого количества решений судов с использованием семантических правил при определении обычая показывает, что они направлены на ликвидацию противоречий между понятиями и приведению их к единообразию.
Обратим внимание на еще один весьма интересный, на наш взгляд, вопрос. Во-первых, материальная отрасль права – трудовое, основанное на соответствующем кодексе Российской Федерации, не закрепляет правовой обычай как источник права. Тем не менее, появились научные позиции относительно определения обычая в трудовом праве. Так, В.А. Крыжан понимает под трудовым обычаем санкционированное государством, не предусмотренное правовыми актами и связанное с трудовыми и идентичными им общественными отношениями правило поведения. Не считая данное определение исчерпывающим, другие ученые считают, что необходимо добавить следующие признаки: правовой обычай должен применяться при наличии пробела в праве, то есть, когда норма трудового законодательства в полном объеме не может разрешить конкретное правоотношение. Указывается и второй существенный признак – применение обычая не должно нарушать и ухудшать положение работника в среде трудовых отношений.
Правоведы Е.А. Ершова, Е.А. Шаповал, Т.В. Ведешкина являются сторонниками закрепления правового обычая в качестве источника в трудовом праве и размышляют об их месте в иерархии форм права. В.А. Крыжан утверждает, что сложившиеся в практике судов общей юрисдикции трудовые обычаи не должны противоречить сложившимся обычаям в практике Конституционного Суда РФ. Таким образом, он подчеркивает важность иерархии среди самих обычаев. Е.А. Ершова говорит, что ниже локальных нормативных актов должны располагаться обычаи, включающие в себя трудовые нормы права, тем самым предлагается некая иерархия между различными правовыми источниками. Данные мнения вполне обоснованы, с ними можно согласиться [10].
Т.В. Ведешкина в своей научной статье приводит конкретные случаи из судебных решений, подтверждающие наличие обычая, связанного с практикой подачи письменного заявления при трудоустройстве. При рассмотрении дела о признании факта трудовых отношений, Ульяновский областной суд указал, что работник не предоставил заявление о при- еме на работу, соответственно, трудовые отношения между работником и работодателем отсутствовали. Подобно тому, подтвердил отсутствие трудовых отношений Свердловский областной суд, указывая на то, что работником не были доказаны факты подачи заявления. Л.С. Джиоева приводит пример, связанный с выдачей ближайшим родственникам умершего работника трудовых книжек под расписку. Будут ли данные решения признаваться правовыми обычаями? Очевидно, что нет. Самое главное условие, при котором обычай считается правовым – это закрепление определенных процедур в законодательстве.
Полагаем целесообразным отметить одну из классификаций трудовых обычаев, в рамках которой выделяют три группы. Первый вид – признанные законом на территории страны общие правовые обычаи, именуемые «custom». Второй – существующие на предприятиях, профессиональных местах правила поведения обычного права, которые принято называть традиционными правилами общественного поведения, привычками. Третий вид – схожие в названии со 2 видом индивидуальные правила обычного поведения. Данная классификация представляется логичной, сначала формируется третий вид, затем он получает распространение на предприятиях, и в конечном итоге становится признанным и сформировавшимся правовым обычаем. В трудовом праве сформулированы критерии разграничения понятий обычая и обыкновения: обыкновение, как правило, ограничено сферой действия, оно действует в пределах определенных отраслей в отличие от трудового обычая; суд в большинстве случаев знает про содержание обычая, а обыкновение – это всего лишь вопрос факта, причем еще не установленный.
Ведутся дискуссии о наличии обычая, как источника права в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ). Например, полномочия помощника судьи долгое время применялись без нормативного регулирования и только в 2019 году сложившийся правовой обычай был закреплен в УПК РФ. Также, до 2018 года аудио-протоколирование осуществлялось секретарем судебного заседания по решению судьи, но в итоге получило закрепление в ст. 259 УПК РФ и стало исполь- зоваться как метод фиксации доказательств в конкретном уголовном деле.
Приведем примеры правового обычая в уголовном праве. Павловский районный суд Алтайского края в приговоре по уголовному делу от 20 июня 2011 года переквалифицировал на п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса – далее УК РФ (касающейся кражи с незаконным проникновением в жилище) действия подсудимого, при этом ссылаясь на ст. 10 УК РФ об обратной силе закона, направленной на смягчение наказания [11]. Санкционирование правового обычая в уголовном праве точно отражает Постановление Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2016 года «О судебном приговоре». Согласно разъяснениям, суд имеет право в случае, если действия (или бездействие) подсудимого не содержат признаков более тяжкого преступления, не отличаются по обстоятельствам от обвинения, не было изначально предъявлено обвинение, переквалифицировать действия (бездействие) и обвинение по новой статье, но при этом данные изменения не должны ухудшать право подсудимого на защиту и его положения в целом [12].
Под правовым обычаем в уголовном деле также понимают сложившуюся практику. В соответствии с нормами ст. 274 УПК РФ в случаях, когда свидетель заявлен обеими из сторон (стороной обвинения и стороной защиты), председательствующий в судебном заседании обычно предлагает право допроса первым стороне защиты, то есть адвокату, что не противоречит требованиям международных стандартов.
Принято выделять императивные и диспозитивные правовые обычаи в уголовной сфере. Как правила поведения правовые обычаи возникают из сложившихся общих норм права с учетом волеизъявления лиц, участвующих в уголовном процессе – данный критерий свидетельствует об их диспозитивном характере. В отличие от диспозитивного способа императивный складывается посредством нелегальных властных распоряжений, соответственно, на него нельзя опираться как на источник права.
Учитывая вышеизложенные факты, можно сделать вывод о том, что под правовыми обычаями в уголовном процессе понимается совокупность правил поведения, непротиворе- чащих и неурегулированных законом при принятии процессуальных решений и процессуальных действий, которые сложились в общей правоприменительной практике.
Все более актуальным остается вопрос, направленный на то, когда именно правила поведения трансформируются в обычаи. В научной литературе преобладает мнение, что этот момент наступает, когда правило поведения закрепляется в правоприменительной деятельности и начинает использоваться судом. Пленум Верховного Суда РФ использует обычаи при толковании трудового права, но не «санкционирует» их, – утверждает Е.А. Ершова. Итак, мы приходим к выводу о том, что возникновение обычая происходит на более раннем этапе, чем момент его санкционирования судом. Главными отличительными особенностями правового обычая являются четкость, однозначность, а также неписаный характер. Учитывая те обстоятельства, что правовой обычай фигурирует в судебных решениях не часто, можно сделать вывод, что при регулировании общественных отношений он занимает второстепенное положение. Тем не менее, обычай в судебной практике, безусловно, направлен на защиту законных интересов и прав участников судебного процесса, и используется судом в целях восстановления справедливости.