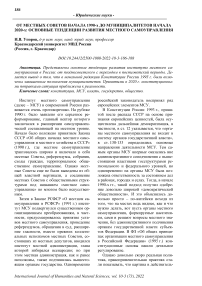Правовой статус военно-гражданских администраций в зоне проведения специальной военной операции
Автор: Пасенов А.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 10-3 (73), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос определения правового статуса военно-гражданских администраций в зоне проведения специальной военной операции. Автор анализирует причины появления военно-гражданских администраций на освобожденных территориях Украины. Уделено внимание процессу формирования правовых основ деятельности данных институтов. Отмечается формирование особого положения Харьковской военно-гражданской администрации. Автор приходит к выводу, что правовой статус военно-гражданских администраций в зоне проведения специальной военной операции на настоящий момент не урегулирован, что обусловливает необходимость более активной работы законодательных органов в данной сфере.
Правовой статус, военно-гражданская администрация, специальная военная операция, федеральный закон, российская федерация
Короткий адрес: https://sciup.org/170196610
IDR: 170196610 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-10-3-189-191
Текст научной статьи Правовой статус военно-гражданских администраций в зоне проведения специальной военной операции
Институт местного самоуправления (далее – МСУ) в современной России развивается очень противоречиво. На рубеже 1990 г. было заявлено его серьезное реформирование, главный вектор которого заключался в расширении самоуправлен-ческой составляющей на местном уровне. Начало было положено принятием Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» (1990 г.), где местное самоуправление трактовалось широко и включало в себя местные Советы, референдумы, собрания, сходы граждан, территориальное общественное самоуправление. Однако местные Советы еще не были выведены из общей властной вертикали, а соединение местных Советов с общественными структурами под названием «местное самоуправление» во многом было искусственным.
Затем в Законе РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» (1991 г.) институт МСУ подвергнулся существенным организационным преобразованиям, в частности, предусматривалось принятие уставов местного самоуправления, проведение референдумов, обращения в суд, расширение гласности, вместо прежних коллегиальных исполкомов местных Советов, состоявших из местных депутатов, вводился институт местной администрации, глава которой избирался всенародно; но при этом местная администрация, как и ранее исполкомы, также подчинялась вышестоящим органам государства. Одновременно российский законодатель воспринял ряд европейских элементов МСУ.
В Конституции России 1993 г., принятой после распада СССР на основе признания европейских ценностей, была осуществлена дальнейшая демократизация, в частности, в ст. 12 указывается, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти», в ст. 130-133 определялись основные направления деятельности МСУ. Тем самым органы МСУ впервые оказались вне административного соподчинения с вышестоящими властными госструктурами регионального и федерального уровней, но одновременно на органы МСУ была возложена ответственность за состоянием дел в районах, городах и селах. Тогда, в начале 1990-х гг., такой подход получил одобрение довольно широкой «демократической общественности». И это объяснялось довольно просто – по-житейски исходя из того, что на местах ведь виднее, как и что нужно делать, вот пусть органы местного самоуправления, формируемые населением, сами и решают вопросы местного значения, без административного подчинения органам государственной власти субъектов Федерации. В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (1995 г.) конституционные основы нашли детальное регулирование.
Однако довольно скоро реальная политика, правоприменительная практика стали показывать, что картина в действитель- ности весьма далека от красивых демократических деклараций. Правящая элита России того периода (конец 1990-х гг.) явно переоценила потенциал МСУ, полагая, что жители муниципальных образований уже готовы к самостоятельному решению чрезвычайно сложных вопросов на местах (здравоохранение, образование, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.), не учитывали, что если уж раньше, при государственной поддержке всех уровней, эти вопросы решались с трудом, то почему новоявленные муниципалитеты, не имевшие вообще практики самостоятельного публичного управления территорией, смогут это сделать лучше? Не было учтено и то обстоятельство, что большинство субъектов Федерации (края, области), только-только получившие этот статус, также не имели достаточной практики самостоятельного государственного управления в сфере МСУ.
Не удивительно, что отмеченный выше закон 1995 г., предоставивший, по сути, карт-бланш как субъектам Федерации в регулировании местного самоуправления (а у них такого опыта не было, ведь они стали субъектами Федерации только в 1993 г., а до этого сами были «местной властью»), так и муниципалитетам, очень быстро перестал действовать.
Такое положение изменило государственную стратегию развития МСУ, и с начала 2000-х гг. де-факто был взят курс на его последовательную централизацию (огосударствление) при сохранявшейся деюре самостоятельности. Так, в новом, и пока еще действующем, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) были заметно сужены полномочия МСУ, равно как и субъектов Федерации в этой сфере, в этот акт вносилось множество изменений. Одновременно чиновники разного уровня, и прежде всего губернаторы, прямо высказывались, что существующая система МСУ не дает им достаточных возможностей влиять на положение дел в регионе, так как должностные лица МСУ административно не подчиняются губернатору. В литературе на этот счет имелись и продолжаются дис- куссии (работы А.А. Амиантова, Д.В. Галкина, Ю.В. Дубровской, М.В. Коростелевой, С.И. Шишкина, Т.М. Шугриной и др.).
И вот эта устойчивая тенденция в 2020 г. обрела некую законченную форму с принятием известных конституционных поправок, и прежде всего в ст. 131 и 132 Конституции России [1]. Органы МСУ впервые на конституционном уровне определены как органы публичной власти, в систему которой они входят вместе с органами госвласти; последние, в свою очередь, получают право вмешиваться в деятельность МСУ. Так, была введена новая часть 1.1 ст.131 Конституции России, согласно которой «органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом» [3], что было немыслимо в 1990-х гг. А согласно также новой ч. 3 ст. 132 «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти» [1]. Однако при этом конституционный «фасад» остался европейским, поскольку глава первая Конституции России («Основы конституционного строя»), где этот «фасад» обозначен, остается неизменной.
Эти поправки показывают, что изначально выбранная в начале 1990-х гг. европейская модель местного самоуправления для России в предложенном тогда виде оказалась неприемлемой по многим аспектам. Конституционные поправки-2020 изменили дальнейшее стратегическое развитие института местного самоуправления, в частности, расширены полномочия субъектов Федерации, позволяющие более эффективно решать организационнокадровые и иные вопросы, относящиеся к сфере местного самоуправления.
Это ни в коем случае не означат отказа от института МСУ. Но это означает необходимость постепенного внедрения само-управленческих начал по мере готовности самого гражданского общества, ибо в начале 1990-х гг. взятая планка оказалась явно завышенной. Мы полагаем, что местное самоуправление нужно сохранить на первичных территориях (села, поселки, небольшие города, микрорайоны в крупных городах). А вот на уровне городских округов и районов местное самоуправление целесообразно трансформировать в государственное управление, тем более, что де-факто это уже происходит, с перспективой (вероятно, неблизкой) постепенной передачи полномочий от государства местному сообществу. И в этом кон- тексте мы не можем согласиться с концепцией проекта нового закона о МСУ – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» [2], где поселения как вид муниципального образования не предусмотрены, поскольку именно на небольших территориях формируется и укрепляется гражданское общество, которое в России пока еще не на высоком уровне.
Список литературы Правовой статус военно-гражданских администраций в зоне проведения специальной военной операции
- Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 "О признании Донецкой Народной Республики" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2022 г., № 9, ст. 1297 (Часть I).
- Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72 "О признании Луганской Народной Республики" // Собрание законодательства Российской Федерации от 2022 г., № 9, ст. 1298 (Часть I).
- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой от 21.02.2022 // Собрание законодательства Российской Федерации от 2022 г., № 14, ст. 2204.
- Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности" // Система обеспечения законодательной деятельности. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/126842-8.
- Официальный сайт Президента Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69465.