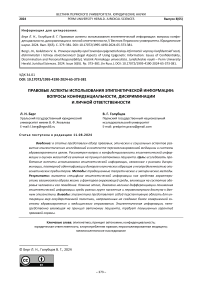Правовые аспекты использования эпигенетической информации: вопросы конфиденциальности, дискриминации и личной ответственности
Автор: Берг Л.Н., Голубцов В.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 3 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье представлен обзор правовых, этических и социальных аспектов развития эпигенетических исследований в контексте персонализированной медицины и системы здравоохранения в целом. Рассмотрен вопрос о конфиденциальности эпигенетической информации и оценен масштаб ее влияния на принцип автономии пациента.
Эпигенетика, принцип автономии, конфиденциальность, юридическая ответственность, злоупотребление правом, персонализированная медицина, межпоколенческое наследование
Короткий адрес: https://sciup.org/147246092
IDR: 147246092 | УДК: 34.01 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-65-373-381
Текст научной статьи Правовые аспекты использования эпигенетической информации: вопросы конфиденциальности, дискриминации и личной ответственности
Эпигенетика – это перспективное направление биологических исследований, ставшее предметом особого интереса в последнее время. При этом темы и проблемы, находящиеся в центре эпигенетических исследований, имеют гораздо более длительную «научную» историю и затрагивают вопросы онтогенеза, адаптации биологии человека к меняющимся условиям жизни, наследования и эволюции [25, р. 11]. Свое начало эпигенетика берет в теории эпигенеза Конрада Уоддингтона, доказавшего наличие неразрывной связи между генотипом и фенотипом, предопределяющей комплексность процесса развития человеческого организма [7, р. 269].
В настоящее время эпигенетика представляет собой гетерогенную и междисциплинарную область биологических наук, изучающую возможности создания полноценного и функционального профиля человеческого генома посредством обращения к технологиям секвенирования. Можно выделить несколько направлений эпигенетических исследований. Первое нацелено на получение представления о конкретных химических модификациях ДНК (например, метилирование), гистонов (например, ацетилирование, фосфорилирование), хроматина (например, позиционирование нуклеосом). В рамках второго направления исследуется роль эпигенома как своеобразного биологического средства выражения социальных условий и факторов воздействия окружающей среды. В этом отношении эпигенетика устанавливает точки соприкосновения между социально-бытовыми условиями жизни человека и основными закономерностями его биологического функционирования, между социальным статусом и здоровьем, между фактами долгосрочного воздействия химических веществ и подверженностью определенным заболеваниям. К третьему направлению эпигенетических исследований относятся те, в которых рассчитываются временные масштабы процессов передачи тех или иных признаков и биологической архивации жизненного опыта, наследуемого, как было доказано, в течение нескольких поколений. Например, была выявлена преемственность метаболических предрасположенностей, а также поведенческих черт (например, преодоление стресса, депрессия) [12, р. 8].
В данной статье представлен обзор ряда этикоправовых вопросов, сопровождающих стремительное развитие эпигенетики. Их анализ позволит получить качественно иное представление о проблемах, традиционно обсуждавшихся в социогуманитарном контексте, определить оптимальный уровень нормативных ограничений для проведения эпигенетических исследований, степень их потенциального влияния на персонализированную медицину и систему здравоохранения, уяснить правовой режим использования эпигенетических данных, последствия их неправомерного раскрытия. Пока научное осмысление этих аспектов эпигенетики не столь обширно, хотя их изучение представляется весьма перспективным в силу впечатляющего роста числа эпигенетических исследований, при проведении которых велики риски нарушений конфиденциальности, злоупотребления правом, проявлений дискриминации и излишнего генетического детерминизма.
Специфика конфиденциальности эпигенетической информации
Как видится, режим конфиденциальности эпигенетической информации составляют два элемента: первый – это право физических лиц контролировать (в том числе разрешать или ограничивать доступ к информации) процессы сбора, передачи, использования данных о состоянии здоровья; второй – обязанность субъектов, получивших доступ к соответствующей информации, не передавать и не раскрывать ее содержание третьим лицам без согласия лица, самостоятельно создавшего информацию, либо иного управомоченного лица [17, р. 3].
Эпигенетические данные требуют повышенных гарантий защиты, так как при нарушении конфиденциальности подобной информации повышаются риски стигматизации и дискриминации определенных лиц или целых групп населения. Сказанное в первую очередь относится к эпигенетически-прогно-стическому скринингу, цель которого – определение наличия у лица эпигенетических изменений, связанных с воздействием окружающей среды или образом жизни (например, курение, злоупотребление алкоголем или наркотиками) [22, р. 735]. Сообразно сказанному, чтобы избежать дискриминации, важно ограничить доступ третьих лиц (включая работодателей, страховщиков).
Помимо отмеченной способности эпигенетических данных характеризовать предыдущее поведение человека и воздействующие на него факторы окружающей среды, эпигенетической информации присущи следующие черты.
-
1. Точность эпигенетических данных . Использование эпигенетической информации предполагает ее обязательную техническую валидацию (например, через воспроизводимость результатов проведенного эпигенетического скрининга) в специальной аккредитованной лаборатории или клинике и указание на источник эпигенетического биоматериала (в частности, клеточный и тканевый состав).
-
2. Нестабильность эпигенетического маркера . Эпигенетические маркеры довольно нестабильны и динамично меняются с течением времени. Было доказано, что сведения о некоторых фенотипических чертах (например, наличие никотиновой или
- алкогольной зависимости), полученные в результате проведения метилирования ДНК, сохраняются на протяжении неодинакового количества времени, в зависимости от ткани, места забора биоматериала или возраста человека [16, р. 651]. Исходя из подобной внутренней изменчивости эпигенетических маркеров, целесообразно проводить эпигенетический скрининг несколько раз, в разные временные промежутки.
-
3. Причинно-следственная связь . Большинство авторов выделяют две формы каузальности эпигенетических маркеров: корреляционная зависимость и причинно-следственная связь [24, р. 197]. Первая демонстрирует, как один физиологический показатель меняется относительно другого. Уточним, что корреляционная зависимость указывает лишь на некую взаимосвязь и не свидетельствует о наличии причинной взаимообусловленности. Соответственно, причины корреляции требуют отдельного изучения, в ходе которого устанавливается характер связи между физиологическими показателями, оценивается, насколько она является результатом простого совпадения. Напротив, вторая форма каузальности эпигенетических маркеров – причинно-следственная связь – однозначно указывает на прямую зависимость одного физиологического показателя от другого, позволяя определить, какое именно явление вызывает другое [24, р. 199]. С этой точки зрения все изменения в организме имеют линейный характер и, следовательно, являются прогнозируемыми. Именно вторая форма каузальности оптимальна для целей эпигенетического скрининга.
-
4. Клиническая ценность биомаркера . Содержание того или иного эпигенетического маркера должно быть достаточным для целей оценки масштабов риска и тяжести течения заболевания, а также потенциала конкретных методов лечения.
Проблемные аспекты конфиденциальности эпигенетической информации
Серьезную проблему составляет повторная идентификация доноров, предоставивших биоматериалы для клинических испытаний. В первую очередь здесь следует упомянуть метод секвенирования бисульфита генома (применяется для изучения механизма метилирования ДНК), результаты проведения которого фиксируются в общедоступных базах эпигенетических данных [9]. Опасность кроется в том, что из массивов данных о метилировании ДНК можно вывести сведения, охватывающие такую конфиденциальную информацию, как предрасположенность к заболеваниям и наличие определенных поведенческих привычек (употребление алкоголя и табака). Сообразно этому, велика вероятность раскрытия информации, которая потенциально может привести к повторной идентификации доноров, предоставивших биоматериалы для клинических испытаний. Иными словами, доступность баз эпигенетических данных существенно повышает риски нарушений конфиденциальности информации, выведенной из метилирования.
Представляется, что для снижения риска повторной идентификации эффективны следующие меры. Во-первых, удаление информации о косвенном генотипе (например, однонуклеотидные полиморфизмы) путем предварительного (до предоставления открытого доступа) редактирования сведений с помощью существующих алгоритмов и ресурсов генотипирования или условных обозначений [26, р. 7]. Хотя удаление информации о косвенном генотипе не в состоянии гарантировать абсолютную конфиденциальность, разработка специальных правил публикации эпигенетических данных может свести к минимуму риски повторной идентификации.
Во-вторых, необходимо просвещать как непосредственно доноров, так и широкую общественность относительно свойств эпигенетической информации, например, полученную посредством анализа данных о метилировании ДНК [1, с. 640]. В особенности о том, что с ее помощью могут быть выявлены фенотипические характеристики и поведенческие привычки. Информирование доноров позволит облегчить понимание ими рисков повторной идентификации и угрозы нарушения режима конфиденциальности эпигенетической информации. В этой связи перспективным направлением является предоставление услуг «эпигенетического консультирования», которое может стать наиболее оптимальной формой разъяснения эпигенетической информации для лиц, не обладающих специальными знаниями, а также инструментом трансляции последних для широкой общественности и популяризации эпигенетики.
В-третьих, целесообразными являются пересмотр стандартизированных согласий на использование биометрических персональных данных и разработка новых моделей информированного согласия, составленных с учетом возраста, уровня образования и сферы трудовой деятельности пациента. В дополнение к этому информированное согласие должно содержать указание на риски и потенциальный вред, связанные с эпигенетическим скринингом, а также на альтернативные методы прогнозирования [6, р. 517]. При включении названных сведений следует избегать информационной избыточности, препятствующей способности заинтересованного лица принимать решения, в согласии с его правом автономного выбора. В этом контексте автономность предполагает, что любой выбор относительно медицинских услуг делается добровольно, осознанно, после получения всей необходимой информации [5]. Таким образом, «адаптация» информированного согласия к нуждам эпигенетики должна основываться на специфике эпигенетических биомаркеров и модели, уже широко применяемой в генетическом тестировании. Она характеризуется тремя свойствами:
-
1) многоуровневость – возможность «дифференцированного» выражения согласия на те или иные части лечения или тестирования в зависимости от готовности пациента на проведение клинических исследований или медицинских вмешательств;
-
2) многослойность – структурирование информированного согласия исходя из содержательной сложности, начиная от информации, которая может быть понята всеми людьми, и заканчивая информацией, требующей интерпретации специалиста или дополнительных разъяснений;
-
3) поэтапность – последовательное «развертывание» информации во время процесса медицинского лечения или скрининга и соответствующее этому обновление информированного согласия.
Представленная многоступенчатая модель действительно способна частично нивелировать содержательную сложность эпигенетической информации, а также облегчить ее восприятие неспециалистами. Вместе с тем некоторые авторы недостатком данной модели считают игнорирование целей пациента и предлагают включать в информированное согласие соответствующий раздел [8, р. 598]. Подобное предложение видится вполне приемлемым, так как учет целей пациентов позволит им сделать конкретный и продуманный выбор, соответствующий их системе ценностей и мнению относительно терапии. Они заслуживают внимания и потому, что эпигенетика добавляет элемент неопределенности в результаты медицинского скрининга (из-за потенциальной способности к реверсии), одновременно способствуя принятию человеком решения об изменении образа жизни. Поэтому, в той мере, в какой образ жизни может быть выведен из эпигенетических биомаркеров, приобретает дополнительный смысл и принцип автономии пациента. Знание того, что конкретный образ жизни неизбежно приведет к патологии, может вызвать чувство вины, отвержения или стыда у человека, когда он не может заставить себя отказаться от тех или иных привычек. Эти чувства могут быть существенно масштабированы в тех случаях, когда существует реальный риск негативного воздействия факторов окружающей среды и образа жизни на потомство (например, в рамках трансгенерации, определяемой как молекулярный механизм влияния на будущего ребенка непосредственно через гаметы или в утробе женщины во время беременности [28, р. 108]). В связи с вышесказанным предложение о включении в информированное согласие «целевого» раздела видится обоснованным с точки зрения соблюдения принципа автономности пациента и ориентированности на совершенствование системы здравоохранения.
Другая проблема, связанная с конфиденциальностью эпигенетической информации, заключается в том, что эпигенетические предикторы риска выходят за рамки запрашиваемых сведений. Это обусловлено высоким потенциалом эпигенетических исследований для выявления особенностей образа жизни конкретного лица. Например, существует взаимосвязь между уровнем метилирования определенных локусов генов (в частности, гена AHRR) и риском заболеть раком легких [27, р. 305]. Одновременно с этим метилирование гена AHRR отражает высокую вероятность нарушений работы сердечно-сосудистой системы [27, р. 306]. Предположим, что в результате проведения теста на выявление рака легких было обнаружено метилирование гена AHRR. Означает ли это, что заинтересованному лицу следует сообщить, помимо факта наличия онкомаркеров рака легких, и о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний? Другими словами, нужно ли предоставлять сведения, предварительно не запрашиваемые? Как видится, для ответа на данный вопрос следует выяснить все положительные и отрицательные последствия получения заинтересованным лицом соответствующей информации. Кроме того, необходимо руководствоваться принципом автономности пациента, предусматривающим право лица «не знать» о наличии того или иного биомаркера, в отсутствие эффективного метода лечения.
Таким образом, знание степени риска наличия заболевания или его исхода может привести к нарушению прав и способствовать дискриминации. С другой стороны, следует также учитывать концепцию «необусловливающей информации», предполагающую обязательность предупреждения о действительном эпигенетическом риске [10, р. 31].
Личная и межпоколенческая ответственность
В контексте эпигенетики важной темой является личная ответственность, концептуализации которой посвящено достаточно большое внимание в научной литературе. В частности, выделяется ретроспективное и перспективное понимание личной ответственности [15, р. 11]. Первое отражает пагубный эффект специфического образа жизни или фактора окружающей среды на здоровье. В соответствии с этим пониманием каждый человек способен практиковать «здоровое» поведение, исключая «вредное». Поэтому лицо, злоупотребляющее алкоголем или употребляющее наркотики, не выполняет обязанности по заботе о своем здоровье. Как видится, ретроспективное понимание личной ответственности не учитывает того факта, что причинно-следственная связь между добровольными решениями человека и эпигенетическими модификациями в патогенезе до сих пор не доказана. Сообразно этому, реальная способность и возможность человека избежать пагубного воздействия на организм должны рассматриваться контекстуально.
Перспективное понимание личной ответственности сосредоточено на вопросе о субъекте, обязанном предпринимать действия для устранения неблагоприятных эффектов эпигенетических предикторов риска [13, р. 536]. В этом контексте заметно несколько неоднозначных моментов. Действительно ли знание о пагубных последствиях нездоровых привычек способно менять наше поведение, в том числе правовое? Предположим следующую ситуацию: в клиническом тестировании выявлен эпигенетический биомаркер, свидетельствующий о повышенном риске развития рака толстой кишки, и одновременно то, что этот биомаркер может быть приведен в норму с помощью изменения диеты. Несомненно, с одной стороны, проявилась исключительная значимость превентивной медицины для снижения риска развития рака. С другой стороны, нельзя с точностью утверждать, что человек изменит свой тип питания, получив результаты клинического прогноза. Обзор метаданных, собранных в рамках многочисленных контролируемых испытаний с участием пациентов, прошедших генетическое тестирование и получивших персонализированные отчеты о значительной предрасположенности к определенной патологии и с рекомендацией поведенческих корректировок, показал, что сообщение о высоком проценте риска склонности к заболеванию, в большинстве случаев, не способствует перемене поведения [4, с. 18].
В данном случае одним из ключевых факторов адекватной оценки эпигенетического предиктора риска является уровень понимания эпигенетической информации, сильно варьирующийся в зависимости от группы населения. Например, в исследовании, посвященном отношению между медицинской грамотностью и склонностью к диабету среди лиц, не страдающих им, было выявлено, что недостаточная медицинская грамотность напрямую связана с поведением, повышающим риск заболеть диабетом 2-го типа (курение, сидячий образ жизни и пристрастие к фастфуду) [19]. Аналогичные корреляции были обнаружены и для других заболеваний, включая психические заболевания, рак и COVID-19 [21]. При этом уровень образования, социальное положение и наличие у лица хронических заболеваний в значительной степени влияют на уровень медицинской грамотности [14, р. 6].
Другим препятствием для уяснения эпигенетической информации может стать сложность самого механизма возникновения риска развития определенного заболевания при воздействии факторов окружающей среды и образа жизни [14, р. 8]. Соответственно, у групп населения с недостаточно развитой медицинской грамотностью вероятны затруднения при адаптации собственного образа жизни с учетом эпигенетического профиля [2, с. 7]. Таким образом, даже если предположить, что эпигенетический биомаркер действительно предсказывает риск для здоровья и может быть использован для прогнозирования результатов медицинского вмешательства, потенциальные преимущества этого не будут доступны для всего населения из-за неодинакового уровня медицинской грамотности.
Еще раз следует отметить, что предполагаемая способность модификации человеческого эпигенома путем изменения образа жизни и степени воздействия условий окружающей среды является фактором дискриминации и стигматизации более уязвимых групп населения [20, р. 1011]. При этом многие люди не могут изменить свой образ жизни в силу объективных причин (нестабильное финансовое положение, отсутствие доступа к квалификационному медицинскому тестированию и консультированию). Разработка государственной политики, направленной на поощрение здоровых привычек, с особым вниманием к уязвимым группам населения, будет способствовать позитивным изменениям в плане расширения возможностей модификации человеческого эпигенома. Меры государственной поддержки, направленные на изменение поведения и индивидуального образа жизни, на предоставление ресурсов для принятия осознанных решений относительно здоровья, а также на смену соответствующих социальных конфигураций, ориентирующих этот выбор (например, налогообложение или запрет определенных продуктов и т. д.), могут существенно повысить «доступность» здорового образа жизни [3, с. 101]. Еще одна переменная, которую следует учитывать, – это время, необходимое для эффективного возврата эпигенетического профиля к более здоровой форме: займет ли это несколько месяцев или целую жизнь?
Помимо обозначенных выше ретроспективного и перспективного аспектов личной ответственности можно выделить межпоколенческий, связанный с эпигенетическим наследованием [18, р. 427]. В данном случае предполагается, что поведение и привычки, передаваемые через эпигенетические профили гамет, влияют на индивидуальное потомство и воплощаются в будущих поколениях [11, р. 582]. Здесь возникает сразу несколько вопросов: кто несет ответственность за это наследство и за его «качество»? Возможна ли ситуация привлечения нашего поколения последующими к ответственности за «неправомерное поведение» (безразличие к воздействию загрязняющих веществ или ведение нездорового образа жизни как на индивидуальном, так и на коллективном (социальном) уровне)? Помимо правового измерения подобной ответственности отметим и этическое, касающееся вопроса о том, какой мир мы собираемся оставить нашим последующим поколениям [23, р. 10].
Заключение
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что эпигенетика ставит нормативные вопросы, которые затрагивают конфиденциальность, ответственность за индивидуальное здоровье и благополучие будущих поколений, а также вопросы равенства возможностей в области здравоохранения и его доступности. Представляется, что названные вопросы не являются совершенно новыми с точки зрения права, а скорее, несут в себе элемент неясности, вносят долю неопределенности в сферу социальной политики. Особенно примечательным с этой точки зрения является режим конфиденциальности эпигенетической информации, требующий тонкой «настройки» законодательства, подходящей для установления границ использования полученных в результате эпигенетических исследований данных. Не менее важно гарантировать безопасность баз метаданных открытого доступа, адаптированных к стандартам режима конфиденциальности персональных данных, при этом учитывающих запрос научного сообщества в проведении эпигенетических исследований.
Нельзя забывать и о сложности эпигеномного «программирования» здравоохранения, свидетельствующей о совокупном вкладе правовых, политических и социальных институтов в эти процессы и, таким образом, предполагающей необходимость модификации всей системы общественного здравоохранения и медицинского просвещения населения, чтобы доказать убедительность клинических вмешательств, основанных на данных эпигенетики.
Еще раз подчеркнем, что с помощью эпигенетических исследований можно объяснить социальное, политическое, экономическое и культурное выражение биологии человека. Эпигенетика являет собой пример того, как науки о жизни двигаются к более социальному взгляду на биологические факторы человеческого развития, и открывает путь для переосмысления этиологии большинства распространенных заболеваний, а также оценки роли индивидуальных усилий в конкретных временных рамках, жизненных контекстах и социально-политических конфигурациях. Иными словами, эпигенетика дает возможность концептуализировать биосоциальность человеческой жизни, суть которой состоит в фундаментальной преемственности биологических и социальных сил, человеческого организма и окружающей среды. Представляется, что по мере дальнейшего совершения биосоциальных открытий в эпигенетике будет продолжаться и поиск оптимальных вариантов как ее нормативного регулирования, так и морально-этического.
Список литературы Правовые аспекты использования эпигенетической информации: вопросы конфиденциальности, дискриминации и личной ответственности
- Берг Л. Н., Голубцов В. Г. Направления правового воздействия в сфере геномных исследований: российский и международный опыт // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 50. С. 638-649. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-50-638-649.
- Москалев А. А. Генетика и эпигенетика старения и долголетия // Экологическая генетика. 2013. № 1. С. 3-11.
- Романчук П. И. Возраст и микробиота: эпигенетическая и диетическая защита, эндотелиальная и сосудистая реабилитация, новая управляемая здоровая биомикробиота // Бюллетень науки и практики. 2020. № 2. С. 67-110. DOI: 10.33619/2414-2948/51/07.
- Фаустова А. Г., Юров И. Ю. Эпигенетические и геномные механизмы в патогенезе посттравматического стрессового расстройства (обзор) // Научные результаты биомедицинских исследований. 2022. № 1. С. 15-35. DOI: 10.18413/2658-65332022-8-1-0-2.
- Alblas M., Schermer M, Vergouwe Y., Bolt I. Autonomy challenges in epigenetic risk-stratified cancer screening: how can patient decision aids support informed consent? // Journal of Personalized Medicine. 2019. Vol. 9. Issue 1. Article 14.
- Beauchamp T. L. Informed consent: its history, meaning, and present challenges // Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 2011. Issue 4. Pp. 515-523.
- Bollati V. Epigenetics and lifestyle // Epigeno-mics. 2011. Issue 3. Pp. 267-277.
- Bunnik E. M, Janssens A., Schermer M. A tiered-layered-staged model for informed consent in personal genome testing // European Journal of Human Genetics. 2013. Issue 6. Pp. 596-601.
- Dyke S. O. M., Cheung W. A., Joly Y. et al. Epigenome data release: a participant-centered approach to privacy protection // Genome Biology. 2015. Issue 16. Article 142.
- Clayton E. W. The law of genetic privacy: applications, implications, and limitations // Journal of Law and the Biosciences. 2019. Issue 6(1). Pp. 1-36.
- Del Savio L. Epigenetics and future generations // Bioethics. 2015. Issue 8. Pp. 580-587.
- Delgado-Morales R. Epigenetic mechanisms during ageing and neurogenesis as novel therapeutic avenues in human brain disorders // Clinical Epigenetics. 2017. Issue 9. Pp. 2-18.
- Dupras C. The ambiguous nature of epigenetic responsibility // Journal of Medical Ethics. 2016. Issue 42. Pp. 534-541.
- Godfrey K. M. Epigenetic mechanisms and the mismatch concept of the developmental origins of health and disease // Pediatric Research. 2007. Issue 5. Pp. 5-10.
- Hanson M. Epigenetic inheritance and the responsibility for health in society // Lancet Diabetes Endocrinology. 2017. Issue 1. Pp. 11-12.
- Iwata A. Altered CpG methylation in sporadic Alzheimer's disease is associated with APP and MAPT dysregulation // Human Molecular Genetics. 2014. Issue 3. Pp. 648-656.
- Joly Y, Dyke S. O., Cheung W. A. et al. Risk of re-identification of epigenetic methylation data: a more nuanced response is needed // Clinical Epigenetics. 2015. Issue 7. Article 45.
- Juengst E. T. Serving epigenetics before its time // Trends in Genetics. 2014. Issue 10. Pp. 427-429.
- Kunysz M., Mora-Janiszewska O., Darmo-chwaf-Kolarz D. Epigenetic modifications associated with exposure to endocrine disrupting chemicals in patients with gestational diabetes mellitus // International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22. Issue 9. 17 p.
- Marmot M. Social determinants of health inequalities // Lancet. 2005. Issue 365. Pp. 1099-1104.
- Paul B., Barnes S., Demark-Wahnefried W. et al. Influences of diet and the gut microbiome on epigenetic modulation in cancer and other diseases // Clinical Epigenetics. 2015. Issue 7. Article 112.
- Rothstein M. A. Epigenetic exceptionalism // The Journal of Law, Medicine & Ethics. 2013. Issue 3. Pp. 733-736.
- Rothstein M. A., Harrell H. L., Marchant G. E. Transgenerational epigenetics and environmental justice // Environmental Epigenetics. 2017. Issue 3. Pp. 1-12.
- Tyson F. L. Environmental Epigenomics in Health and Disease. Heidelberg: Springer, 2013. 308 p.
- Waddington C. H. The Epigenotype // International Journal of Epidemiology. 2012. Issue 1. Pp. 10-13.
- Webster A. P. Points-to-consider on the return of results in epigenetic research // Genome Medicine. 2019. Issue 1. Pp. 2-9.
- Widschwendter M. Epigenome-based cancer risk prediction: rationale, opportunities and challenges // Nature Reviews Clinical Oncology. 2018. Issue 5. Pp. 292-309.
- Wilkinson S. Choosing Tomorrow's Children: The Ethics of Selective Reproduction. Oxford, 2010. 274 p.