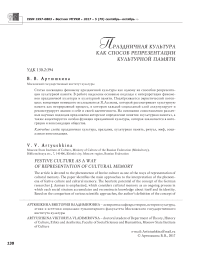Праздничная культура как способ репрезентации культурной памяти
Автор: Артюшкина Виктория Владимировна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 5 (79), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену праздничной культуры как одному из способов репрезентации культурной памяти. В работе выделены основные подходы к интерпретации феноменов праздничной культуры и культурной памяти. Подчёркивается эвристический потенциал концепции немецкого исследователя Я. Ассмана, который рассматривает культурную память как непрерывный процесс, в котором каждый социальный слой аккумулирует и реконструирует знания о себе и своей идентичности. На основании сопоставления различных научных подходов предложено авторское определение понятия «культурная память», а также акцентируется особая функция праздничной культуры, которая заключается в интеграции и консолидации общества.
Праздничная культура, праздник, культурная память, ритуал, миф, социальная консолидация
Короткий адрес: https://sciup.org/144161101
IDR: 144161101 | УДК: 130.2:394
Текст научной статьи Праздничная культура как способ репрезентации культурной памяти
Праздничная культура – давно объект для исследования. Зарубежные и отечественные авторы – этнографы, историки и теоретики культуры – активно изучают сущность, историю, роль, функции праздника и праздничной культуры. Однако каждая из уже существующих концепций рассматривает данный феномен в узких дисциплинарных рамках, а потому не раскрывает в полной мере сущность и значение феномена праздничной культуры как формы репрезентации культурной памяти.
Для настоящего исследования важно определиться с такими понятиями, как праздничная культура и культурная память.
Тематика памяти занимает важное место в философско-культурологических исследованиях. Ряд учёных, в той или иной степени обращавшихся к проблемам культурной памяти, в ходе исследований выявили, что можно обнаружить разные уровни культурной памяти и способы её концептуализации. У истоков изучения данного феномена стоял А. Бергсон, который подробно описал комплексный механизм функционирования памяти и сознания [5]; проблематика «коллективного сознания» и «коллективной памяти» связана, прежде всего, с традициями школы Э. Дюркгейма [7]; М. Хальбвакс положил начало новому научному направлению – социологическому исследованию памяти и предложил коллективные воспоминания («коллективную память», по М. Хальбваксу) рассматривать как феномен, необходимый в социальной практике для выживания общества [15].
Наиболее авторитетными зарубежными и российскими исследователями, занимающимися изучением культурной памяти, считают Я. Ассмана, М. Блока, А. Г. Васильева, Л. Н. Лепилина, Ю. М. Лотмана, Л. Н. Люблинскую, П. Нора, Л. П. Репину, П. Рикера, Э. Тоффлера, П. Хаттона, В. Н. Шкуратова и О. Г. Эксле. При этом каждый из исследователей акцентирует то или иное свойство культурной памяти. Ю. М. Лотман в контексте семиотического дискурса определял культуру как коллективную память [9]. Французский историк М. Блок, утверждал, что культурная память проявляется через микроисторию, или «жизненную историю», того или иного человека [6]. П. Рикер выделил феномен человеческой субъективности: «память-забвение», как некую «антропологическую структуру исторического состояния [14]». Философ интерпретирует память и забвение как два «прочно сплетённых лика» одного и того же феномена [14].
Социально-гуманитарный дискурс памяти представлен широким понятийным рядом, в котором чаще всего встречаются такие концепты, как «коллективная память», «социальная память», «историческая память» и «культурная память», которые иногда используют как тождественные понятия, а иногда дифференцируют.
В самом общем виде, по словам Л. П. Репиной, под коллективной памятью народа подразумевают «совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом [13]», что позволяет использовать в качестве смысловых эквивалентов для определения данного феномена такие понятия, как «историческая память», «социальная память», «социальный опыт» и другие. В контексте же культурологического знания наиболее продуктивным представляется понятие «культурная память», акцентирующее внимание на культурном единстве сообщества в континуальном аспекте.
Для нас особый интерес в изучении феномена «культурная память» представляет концепция немецкого исследователя Я. Ассмана, который отмечает: «культурная память – это непрерывный процесс, в котором каждый социальный слой аккумулирует и реконструирует знания о себе и своей идентичности [2]». «Объективированные формы» культурной памяти, или её «пункты фиксации», по словам Я. Ассмана, создаются с помощью художественных, графических объектов, текстов, монументальных построек, а также ритуалов и сакральных действий как институционализированных форм коммуникации, являющихся «фигурами воспоминания» [2]. Носители культурной памяти – не обязательно современники «актуального союза тех, кто вспоминает», а особые (иногда профессиональные) хранители и носители традиций, например, «жрецы, шаманы, барды, учителя, писатели, художники и ученые [2]».
Многие исследователи склонны рассматривать в качестве первичных форм репрезентации культурной памяти миф и ритуал. В своей статье «От “помнящей культуры” к “культуре забвения”: дискурсы и исторические формы репрезентации культурной памяти» И. В. Малы- гина отмечает, что память культуры ритуального типа принципиально отличается от её более поздних состояний прежде всего тем, что на раннем этапе филогенеза человек не способен ни выделить себя из окружающей среды, ни воспринимать мир генетически: прошлое и настоящее в первобытном сознании неразделимы. Первоначальная, наиболее примитивная форма осознания и репрезентации прошлого связана с мифом, который практически лишён категории времени. Тем не менее, как отмечают учёные, уже архаическое общество выделяло «ядер-ные фрагменты памяти» [3] (наиболее ценный, с точки зрения этого общества, опыт) и осуществляло особый контроль над их сохранностью с помощью ритуала.
Можно утверждать, что на протяжении длительного времени именно мифоритуальный комплекс оставался, по существу, основным способом хранения и репрезентации коллективной памяти. С течением времени формы репрезентации культурной памяти становились более разнообразными. Миф обретал характер устной традиции – комплекса знаний и воспоминаний, которые передавались из уст в уста на протяжении нескольких поколений.
Следующий этап – появление письменности как важного дополнительного источника знания о прошлом социаль- ной группы. Доминирующей формой сохранения и репрезентации культурной памяти становится историческая наука, являясь важным источником и фактором формирования этнокультурной идентичности.
Тем не менее и в современном постиндустриальном обществе миф и ритуал остаются важнейшими элементами культуры и наиболее отчётливо проявляют себя в праздничной культуре. В связи с этим можно утверждать, что праздничная культура занимает особое место в формировании, воспроизводстве и сохранении культурной памяти.
Таким образом, культурную память следует понимать как одно из внешних измерений памяти сообщества, которое отвечает за передачу смысла в культуре и через обращение к прошлому обосновывает культурную идентичность вспоминающей группы (народа), а одним из способов создания, хранения и трансляции культурной памяти является праздничная культура.
К настоящему времени накопилось значительное количество подходов к интерпретации феномена праздничной культуры.
Праздник, как особая форма человеческого бытия, исследовался ещё античными философами. Например, праздничную культуру трактуют как сумму традиций, обрядов, символов, атрибутов, характерных для определённых праздников конкретного общества в определённый исторический период. Праздничная культура не просто повторяет укоренившиеся обычаи, она отражает культурное состояние народа в данный момент времени [8]. Проблемное поле другого научного подхода составляют исследова- ния ритуальной компоненты праздника, получившие развитие в рамках разных антропологических школ: структурной (Ф. Боас, П. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс, А. Радклифф-Браун), функциональной (Б. Малиновский, К. Прейс, М. Элиаде), а также социально-психологической школы в антропологии, представители которой акцентируют внимание на роли ритуала в интеграции и социальной консолидации (Р. Бенедикт, А. ван Геннеп, М. Мид). Признание и значительное распространение получил ещё один подход к исследованию праздничной культуры. В его рамках праздник рассматривается как особый аспект социального поведения, формирующий специфическую систему культурных символов и связанный с выходом за пределы повседневности, противопоставляющийся ей (П. Бергер, Г. Блумер, К. Гирц, И. Гоффман, Т. Лукман, Дж. Мид, А. Шюц).
Такой диапазон концептуальных идей и теоретико-методологических подходов указывает на многомерность и многофункциональность праздничной культуры и её конструктивного потенциала в отношении человека и его культурного бытия.
В настоящее время учёные выделяют различные концепции праздничной культуры, среди них основными являются следующие:
-
1) эмпирико-описательная ; её основоположники – И. М. Снегирев и А. В. Терещенко – достаточно подробно проанализировали всё многообразие русских народных праздников с точки зрения их эстетического и социологического наполнения;
-
2) мифологическая (или религиозно-обрядовая) ; авторы данной концеп-
- ции – А. П. Афанасьев, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня – указывают на привязанность праздничных дней к переломным, кризисным моментам природы и выяв-
- ляют миросозерцательную самостоятельность праздника как явления духовной культуры;
-
3) трудовая ; данная концепция в изложении, например, В. И. Чичерова, В. Я. Проппа основана на представлении о том, что трудовая и общественная жизнь человека является основным и единственным источником праздника, влияющим на формирование праздничного календаря и обрядово-ритуальных форм [12];
-
4) рекреативная ; в рамках которой такие исследователи, как Н. О. Мизов, С. Т. Токарев и другие, объясняют происхождение, содержание и календарь праздников как чередование ритмов труда и отдыха, как ответ на потребность в отдыхе;
-
5) школа заимствования как разновидность мифологической концепции; её представители – Е. В. Аничков, А. Н. Веселовский, В. Ф. Миллер – на основе
сопоставительного анализа античных, византийских, славянских и румынских обрядово-зрелищных форм фокусируют своё внимание на универсальных свойствах праздника, одинаково присущих разным культурам и народам и придающих ему статус «наднационального» явления;
-
6) игровая ; её наиболее авторитетным представителем считается Й. Хейзинга, трактующий праздник как полное проявление «священной игры» [16];
-
7) философско-культурная, или миросозерцательная ; эта концепция представлена именами М. М. Бахтина,
А. А. Белкина, Д. С. Лихачева, A. M. Панченко, Л. С. Лаптева, А. И. Мазаева.
С точки зрения этих учёных, праздник не просто дублирует труд, подводя итоги трудового цикла и подготавливая участников к новой фазе трудовой жизни, но постоянно провозглашает народный идеал жизни, с которым изначально связан [18].
Но во всех вышеупомянутых подходах к интерпретации генезиса и функциональных параметров феномена праздничной культуры если и не отсутствует, то носит «факультативный» характер внимание исследователей к идентификационному потенциалу праздника, а также к такой его специфической функции, как фиксация и репрезентация культурной памяти народа. Между тем с помощью праздника формируется символически переработанный образ прошлого и одновременно происходит воспроизводство содержания и трансляция смыслов культурной памяти. Праздники, не имеющие опоры в культурной памяти, не получают признания и не могут считаться праздниками во всей полноте рассматриваемого понятия, включающего не только внешнее оформление, ритуалы, обряды, традиции празднования, но и рефлексивное и эмоциональное восприятие события как социально значимого.
Особую роль в жизни каждого человека играет потребность в принадлежности к той или иной общности. О важности этой потребности можно судить по тому факту, что А. Маслоу в своей пирамиде потребностей отвел ей третье место – после потребности физиологического уровня и уровня безопасности.
Праздники всегда служили особым событием и средством консолидации определённой группы, при этом, благодаря регулярности праздника, осуществляются трансляция и обмен ценностями и смыслами, значимыми для данного культурного сообщества, как в актуальном, так и в континуальном контекстах.
Основой консолидации в контексте праздничной культуры служат чувства сопричастности и сопереживания, возникающие в процессе обрядового оформления некого события, обозначенного обществом как значимого, важного.
Праздник даёт возможность членам культурной общности, самыми разным её представителям, в том числе субкультурным образованиям, почувствовать себя сопричастным ей, переживать и манифестировать своё согласие с событием и его оценкой, а также хранить память об этом событии, которое является существенным для сохранения целостности общности и выходит за рамки повседневности.
Особенность и культурное качество онтологии праздника заключается именно в том, что он выступает в качестве объединяющего элемента для различных групп. Если повседневная культура «центробежна» по своей сути, поскольку «растаскивает» целостность социума по различным профессиональным, гендерным, поколенческим и иным сегментам, то праздничная культура, напротив, «центростремительна» и выполняет важную функцию интеграции и консолидации общества.
Праздничная культура является неотъемлемым элементом культурного бытия человека, причём таким, который не принадлежит определённому синхронному срезу культуры, а пронизывает её насквозь, конституируя её антропосо- циальное измерение. Её возникновение в культуре в начале социальной истории обусловлено рядом специфических человеческих родовых потребностей, без удовлетворения которых невозможно было бы утверждение человека в бытии в его человеческом и антропосоциальном качестве.
В социальной истории человека, начиная с самых её истоков, праздник выступал универсальной формой эмоционально-символического выражения, утверждения и трансляции важнейших ценностно-мировоззренческих установок культуры в её конкретной общественно-исторической форме. Но вместе с тем несомненно то, что праздничная культура, как символический способ и форма удовлетворения фундаментальных, но исторически изменяющихся потребностей человека, имеет конкретно-исторический характер.
Праздничная культура – сфера надличностных, общих смыслов, хранимая и воспроизводимая членами общества, особым образом передаваемая из поколения в поколение. В таком качестве праздничная культура конституирует не только социальность человека, но и континуальность самой общности.
В связи с этим перспективным направлением развития концепции праздничной культуры является не только дальнейшее укрепление философско-категориального статуса понятия «праздничная культура», но и расширение методологических возможностей его применения, в частности – в исследованиях феномена культурной идентичности и её исторической динамики и механизмов формирования, важнейшим из которых по праву считают культурную память.
Список литературы Праздничная культура как способ репрезентации культурной памяти
- Арнаутова Ю. А. Культура воспоминания и истории памяти // История и память: History and memory: историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л. П. Репиной. Москва: Кругъ, 2006. С. 47-55.
- Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольской. Москва: Языки русской культуры, 2004. 363 с.
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / Рос. АН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Санкт-Петербург: Наука, 1993. 240 с.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1990. 544 с.
- Бергсон А. Творческая эволюция: Материя и память: [пер. с фр.]. Минск: Харвест, 1999. 1407 с.