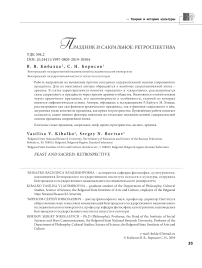Праздник и сакральное: ретроспектива
Автор: Кибалко Василиса Владимировна, Борисов Сергей Николаевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (91), 2019 года.
Бесплатный доступ
Работа направлена на выявление причин оскудения содержательной основы современного праздника. Для их выяснения авторы обращаются к наиболее сакрализованной эпохе -архаике. В статье характеризуются понятия «праздник» и «сакральное», рассматривается связь сакрального и празднеств через призму древнего общества. Выявляются отличительные черты архаичного праздника, его закономерности и особенности, главной из которых является мифологическая основа. Авторы, обращаясь к исследованиям Р. Кайуа и М. Элиаде, рассматривают как сам феномен архаического праздника, так и феномен сакрального в нём, затрагивая такие константы праздника, как время и пространство. Проведённая работа помогает осмыслить, какие именно факторы повлияли на тотальное снижение ценной содержательной основы праздника современной эпохи.
Праздник, сакральное, миф, время, пространство, эксцесс, архаика
Короткий адрес: https://sciup.org/144161318
IDR: 144161318 | УДК: 394.2 | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-00404
Текст научной статьи Праздник и сакральное: ретроспектива
С каждым годом смысловая ценность современных празднеств стремительно снижается, праздник становится «пустым», несмотря на свою многомерность и обилие функций, деформируется и искажается. С целью выявления причин стремительной деградации содержательной стороны праздника в текущий период авторы статьи проведут исследование в той части времени, где праздник был вместилищем особого, сакрального смысла, – в древности.
Праздник – вневременное явление, присущее любой культуре, продолжающее выступать в качестве одной из наиболее важных сторон жизни общества, регулирующих его адекватную жизнедеятельность. В архаичные времена он выступал не только в качестве необходимого отдыха после трудовых работ, но прежде всего – как особое магическое действо, которое имело влияние на будущее народа; как портал в другой – потусторонний – мир.
Религиозные воззрения архаичного общества, в основе которых лежат мифы, фетишизм, тотемизм и анимизм, составляли также и основу празднеств древности. Праздник прошлого неразрывно связан с мифом (особой формой сознания древнего человека, сопряжённой со знанием о мире) – часто в его пределах воссоздавалась мифо- логическая первоситуация [1, c. 6]. В. Топоров придерживался мнения, что «для архаичного мифопоэтического сознания всё, что есть сейчас, – результат развёртывания первоначального прецедента, экспликация исходной ситуации в новые условия “оплотня-ющегося” космологического бытия» [9, с. 11]. Другими словами, в данной концепции ми-фособытия представляют собой проигрывание одной и той же ситуации миротво-рения, а герои являются вариантами бога-творца. Результатом этого становится то, что миф обрастает «плотной, наглядной и тотальной сетью отождествлений с правилами переходов (трансформаций) от одного события к другому, от одного героя к другому» [9, с. 11], а сознание древнего человека «затачивается» под перманентную необходимость решения совпадений микро- и макрокосма, мира и человека, а также сопряжённых с этими тождествами проблем.
По мнению К. Хюбнера, «одним из, пожалуй, типичнейших для мифа жизненных проявлений выступает праздник. И наши сегодняшние праздники и торжества, имеющие, за редкими исключениями, религиозное происхождение, обладают равным образом и мифическими корнями, поскольку восходят к языческим обрядам наших предков» [10, с. 171]. В. Агарков придерживал- ся точки зрения, согласно которой именно миф является осью, объединяющей все элементы праздника и придающей ему такие особенности, как магическая связь с ушедшими поколениями [2], расширение и изменение реальности, сакральный смысл. Базируясь на мифе и религиозных воззрениях, праздник, справляющийся в мифологическом пространстве, проигрывает мифологемы, возвращая их к жизни путём прямых параллелей, и в то же время возрождает реальный мир. Если придерживаться мифоосевой позиции, то можно прийти к выводу, что отсутствие мифологической основы в празднике рождает беспорядочность и приводит к обеднению культуры, мифологическое же ядро делает праздник особым – сакральным – действом.
Понятие «сакральное» в трактовке А. Забияко представляет собой «важнейшую мировоззренческую категорию, выделяющую области бытия и состояния сущего, воспринимаемые сознанием как принципиально отличные от обыденной реальности и исключительно ценные» [4]. Д. Пивоваров называет сакральным «всё то, что относится к культу, поклонению особо ценным идеалам» [8, с. 757]. Сакральным является всё входящее в категорию освящённого, святого, заветного. Оно выступает противоположностью светского, профанного, мирского [8, с. 757]. Таким образом, как мы видим, понятие «сакральное» тесно сопряжено с чем-то иррациональным и религиозно-мистическим.
Жизнь древнего человека была условно поделена на две области: профаническую и подлинно ценную. К первой относилось всё связанное с бытом и ежедневной рутиной, а ко второй – всё то, что было важно для высших сил, то, что было сакрализовано. Важно отметить, что именно сакральное отвечало за правила организации пространства и времени – двух важнейших компонентов праздника. М. Элиаде считал, что пространство и время древнего человека неравномерно и пунктирно: «Есть периоды Священного Времени. Это время праздников. С другой стороны, есть мирское время, обычная временная протяжённость, в которой разворачиваются действия, лишённые религиозной значимости» [11, с. 283]. Среди характеристик времени праздника – его особая повторяемость: праздничное время способно неизменно воспроизводиться веками, так как это время создано высшими силами во время их деяний и именно они транслируются праздником. Древний праздник возникал в месте пересечения объективной реальности с реальностью мифической, в этом особом «место-времени» («хронотопе», по М. Бахтину [3]) наступал момент проигрывания мифа. «Праздник – это не церемония “в память” о каком-либо мифическом (следовательно, и религиозном) событии, а его восстановление в настоящем» [11, с. 289].
Празднику отводилась ключевая роль в жизни архаичного коллектива, так как именно он являлся материальным отображением религиозных воззрений, воплощением мифологии, вмещал в себя священнодействия, объединял коллектив, сплачивая его, показывал подлинную картину жизни с ценностными ориентациями, актуальными проблемами; решал насущные, первоочередные проблемы общества, в какой бы плоскости они ни лежали – реальной или мифологической. В праздниках и их обрядово-ритуальных комплексах оживала «мифологическая память о прошлом, происходила наглядная актуализация мифических сюжетов, их применение к настоящему» [6, с. 231].
Говоря о празднествах древности, можно отметить, что они представляют собой уникальный культурный сплав, основанный на мифе, событийности, глубокой ре- лигиозности, аграрном календаре, обрядово-ритуальном комплексе и тому подобном. В результате этого смешения праздник представлял собой некое заклинание, главной функцией которого было обеспечение жизнедеятельности общества; и именно поэтому праздник древности неотделим от своего сакрального ядра.
Р. Кайуа, исследуя феномен сакрального, не единожды возвращается к празднику и утверждает, что последний «предстаёт как актуализация первых времён мироздания, время изначальной эры великого творения, когда все вещи, живые существа, социальные институты сложились в своей традиционной и окончательной форме» [5, с. 223]. Философ настаивает на том, что праздник является ярчайшим противопоставлением будням: тихую и спокойную рутину сменяет мощный яркий поток экзальтации, усиливаемый религиозностью, нуминозностью (опыт осязания присутствия некой сверхсилы), эксцессами. Для того чтобы праздник действительно стал «дверью в другой мир», стадия предпраздничных приготовлений предполагает не только бытовую подготовку ритуальной пищи, специального места и прочего, но и жёсткий пост – кроме традиционных пищевых и физиологических воздержаний, вводятся дополнительные ограничения и запреты, касающиеся поведения. Однако временные лишения необходимы для того, чтобы сделать праздник на самом деле невероятным, потусторонним действом: строгие, проводимые по всем правилам торжественные обряды, посвящённые божественному, и многозначительные ритуальные действа перемежаются с неистовой радостью, дикими игрищами и неумеренностью во всём. Архаический праздник создавал особые эксцентричные условия, исполненные ритуальной хаоти-зацией, искажениями и смехом, в проти- вовес которым и одномоментно с которыми он наполнял созидающей энергией, а через ритуальные таинства порождал высокие духовные чувства. Только в празднике дозволены абсолютные крайности: отменяются законы обычной жизни, разрешены и одобряемы брань, разрушения, воровство и побоища [3], которые в данном случае являются проявлением охранительной магии, строящейся на принципе: «Если это сделаем мы, то этого не сделают высшие силы», а на первый план выходит заразительная эмоциональность, групповое объединение. Участники архаического праздника стараются съесть и выпить как можно больше, исполняют специальные ритуалы, танцы, жертвоприношения – всё это призвано сыграть роль повышения качества сельскохозяйственной деятельности (богатый урожай, плодородная почва, увеличение числа приплода). Главными лицами на празднествах становятся в основном служители культов и ряженые, являющиеся воплощениями божеств или прародителей. Разгул и эксцессы, в случае праздников, призваны обеспечить обновление жизни и её новую мощь. «В обществах, где праздники не рассеяны по всему циклу трудовой жизни, а сгруппированы в настоящий сезон праздников, ещё лучше видно, насколько эта пора фактически образует собой период преобладания сакрального» [5, с. 220], отмечает Р. Кайуа и резюмирует, что праздник представляет собой особое время – время обновления и восполнения сил для жизни, наступающее в самый разгар кризиса сезона и необходимое для продуктивной работы в новом цикле.
С течением времени и развитием множества факторов, таких как государственность, ремесленничество, расслоение общества и других, жизнь становится всё упорядоченнее, а праздник – всё мельче: возмож- ность длительного нарушения привычного уклада жизни грозит экономическими потерями, воззрения изживают себя, хаос перестаёт быть уместным, празднества становятся локальней и уже не охватывают всё окружающее пространство, а обилие общественных забот не позволяет уделять сакральному столько внимания, сколько было отведено в прошлом. Жизнь общества меняется: индивидуализируется – человек максимально пытается отгородиться от всего, что его окружает; рационализируется – люди стараются абстрагироваться от того, что им не совсем понятно, забывают о своём мифологическом прошлом. Результатом этого становится постепенная фрагментация сакрального, которая в конечном счёте, при разделении духовных и светских институтов, начинает вырождаться. «Утрата сакральности характеризует весь опыт нерелигиозного человека в современных обществах. Вследствие этого современный человек ощущает все более серьёзные затруднения в понимании масштабов бытия и ценностей религиозного человека первобытных обществ» [11, с. 256], – отмечает М. Элиаде. На смену празднику приходят отпуска, которые заменяют праздник только в функции отдыха от работы, в основном же они несут, скорее, радикально противоположные архаичному празднику настроения – разъединяют общество, расслабляют его, замедляют, помещают в обстановку инертности и пустоты.
Стоит, однако, отметить и то, что, наряду с деструктивными процессами, в современной культуре всё же существуют глубоко осмысленные обрядово-ритуальные наполнения празднеств, как пришедшие из древности и обретшие новый смысл, так и новые. Сейчас можно наблюдать дальнейшее усиление интереса к православию, что способствует прогрессивному подъёму
⇒ Теория и история культуры праздников религиозной направленности, которые, в свою очередь, являются важной частью современной праздничной культуры и одновременно ярчайшими представителями сакрально наполненных празднеств. Необходимо отметить, что религиозные праздники отмечаются не только верующими, но и теми, кто не верит в божественные силы. Особо это применимо к христианству – рождественские и пасхальные праздники справляются на государственном уровне более чем в пятидесяти странах мира, и многие участники так называемой светской части этих празднеств не являются верующими, а просто находят обрядовую и внешнюю их составляющую привлекательной и интересной. Этому во многом способствует и массовая культура, делающая эти празднества своеобразным брендом.
На территории России проживали и проживают народности, имеющие разнообразные вероисповедания. Христианская вера, ислам, иудаизм, буддизм и многие другие религии существуют в Российской Федерации бок о бок, каждая из них имеет свои праздники и обрядово-ритуальный комплекс. Наиболее распространённые праздники в современном российском обществе – православные, среди них наиболее известны Рождество, Крещение и Пасха. Они же являются наиболее популярными – святочный комплекс, пасхальные переходящие праздники (праздники, не имеющие фиксированной даты), а также соблюдение расписания масленичной недели (Масленица – народный праздник, который успешно вписался в христианский календарь, став логичным предшествием Великого Поста) переживают период возрождения старых традиций и появления новых. В республиках с тюркоязычным населением, в некоторых северных и кавказских регионах доминируют праздники ислама.
Религиозные празднества в России не просто популярны, они зачастую выступают как истинно народные, а иногда и как государственные. Имея богатую историю, они продолжают развиваться, пробуждая у народа интерес к культуре и вере. Именно они продолжают являться своеобразным оплотом традиций – в них сохранились смыслы, обряды и ритуалы, тексты песен (молитв, заговоров и тому подобного), модели поведения и многое другое. На примере Белгородского государственного на- ционального исследовательского университета можно проследить, как христианские традиции, возрождаясь, активно входят в жизнь социума: новые здания и объекты, а также реконструированные помещения обязательно освящаются; крупные празднества (в том числе светские – День знаний, День рождения университета, День российского студенчества и другие) сопровождаются богослужениями; в традиционном праздничном шествии, открывающем учебный год, присутствуют представители духовенства; «Студенческая пасха» отмечается очень масштабно и охватывает все вузы области, справляется святочный комплекс. Также на постоянной основе вуз тесно сотрудничает с Марфо-Мариинским сестричеством милосердия и Белгородской православной духовной семинарией, регулярно проводятся тематические просветитель- ские мероприятия.
В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что главным фактором, повлиявшим на десакрализацию праздника, является трансформация мифологической основы и её измельчание. Причины этого феномена сопряжены с такими категориями, как государство, расслое- ние общества, экономика, развитие культуры развлечений и другие.
Снижение сакральности праздничной культуры современности говорит об измельчании творческого и духовного начал, серьёзных изменениях в ориентирах общества и его моральном облике, накоплении деструктивной энергии, которая не имеет контролируемого выхода (пожалуй, единственной адекватной альтернативой праздничному беспределу могут послужить только игры). Вместе с тем, однако, сохраняют- ся и сакрально наполненные праздники – в основном религиозные, главными примерами которых являются христианские празднества.
Праздник представляет собой концентрированную культуру, является отражением истории. Вместе с тем праздник постоянно обновляется и трансформируется, помогает не только усваивать традиции, но и выстраивать картину мира. «Полноценное знание и понимание праздника невозможно без изучения его истоков» [7, с. 28–29], – потому люди, ратующие за возрождение культуры (углубление ценностного содержания и знание своего прошлого), вместилищем которой и являлся праздник, должны заострить своё внимание на изучении этого явления, веками формировавшего современность: обряды и ритуалы, песни и танцы, пословицы, поговорки, заклички, загадки и многое другое, что взросло и сохранилось доныне именно благодаря празднествам. Человек до сих пор продолжает нуждаться в празднике, ощущая его недостаток не только в качестве атрибута веселья, но и в особом состоянии междумирья, которое помогает прикоснуться к той таинственной силе, которую он несёт.
Список литературы Праздник и сакральное: ретроспектива
- Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. Ереван: АН АрмССР, 1983. 232 с.
- Агарков В. И. Миф, ритуал, праздник: взаимосвязь традиций // Культура народов Причерноморья. 2001. №21. С. 185-190.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Эксмо, 2015. 640 с.
- Забияко А. П. Сакральное // Большой толковый словарь по культурологии [Электронный ресурс] / под ред. Б. И. Кононенко. URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/ slovar-209-1.htm#zag-1059
- Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. Москва: ОГИ, 2003. 296 с.